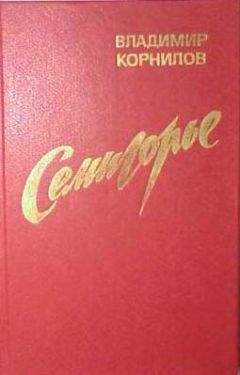Владимир Корнилов - Годины
В шуме леса Алеша уловил западающий от далекости лай. Услышал собак и Краеношеин; на вдруг затвердевшем его лице испуганно заметались красные, воспаленные глаза. Какое-то время он слушал, напрягая широкую, сильную шею, медленно отер рукавом проступивший на лбу пот, присвистнул невесело:
— Ну, кажись, время кончилось! — Он встал, какая-то бесшабашность появилась в усмешливом его взгляде, он попытался даже улыбнуться. — Ты вот что, Алексей: скажи Васенке про все, как есть. Нет, погоди. Про это вот самое, — он подергал ворот куртки, — не говори. А про то, что сейчас на этом месте будет, про то скажи. Ну, топай! Обняться не хочешь? Хрен с тобой… Погоди, вот… — Из кармана куртки он вытянул компас, бросил Алеше. — Думал сам уйти, да меня теперь никакой компас не выведет!.. Ну, прощай… — Он оглядел себя, рванул полы, обрывая железные пуговицы, сбросил куртку с плеч.
— Помирать, так не в чужой шкуре… Торопись, Алексей! Без собак за тобой не пойдут! Но отсюда убирайся. В леса убирайся. — Он гнал его и как будто не верил, что сейчас он уйдет.
Алеша видел, как в белой исподней рубахе он распластался под сосной у раздавшегося ее комля, повернул пулемет в ту сторону, откуда только что, задыхаясь, они шли. Лай слышался уже отчетливо. Алеша пятился, быстро приближающийся лай как будто раздвигал его и Красношеина. Спиной он вмялся в холодные от росы молодые сосны, повернулся и, задыхаясь от слабости и торопливости, побежал, прикрывая рукой лицо от мокрых ударяющих веток.
Капитана, Малолеткова и молчаливого человека с нехорошим от худобы лицом он догнал на увале. Отсюда, с увала, они и услышали первую, гулко раскатившуюся по лесу пулеметную очередь. Услышали и собачий визг, тут же заглушенный второй, короткой очередью. Алеша, дрожа от сознания совершающейся несправедливости, не сводил глаз с Капитана. Капитан видел его взгляд, и сжатые сухие его губы нервно подрагивали в презрении к нему. Капитан повернулся и первым молча побежал с увала вниз, в затененную глубь пахнущего сыростью леса.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Иван Петрович
Снова, как три года назад, лошадка бежала по поляне, через овраги, от деревни к деревне, по слабо наезженной даже за долгую зиму дороге, в дальний от Волги край.
Только не красавица Майка, с гордо вскинутой головой, мерила расстояния тонкими быстрыми ногами, а маленький черногривый азиатский меринок (с начала войны этих выносливых лошадок порядочно завезли в леспромхозы от монголов): ровно трусил, пошумливая сбруей. И рядом с Иваном Петровичем в тесной кошевке сидел не рассудительный, доброй памяти, конюх Василий Иванович, а утонувшая с головой в большом дорожном, как и у него, тулупе Серафима Галкина, с чьей судьбой столкнулся он по общему несчастью; Серафима так и осталась в поселке, привязанная к нему благодарностью за оказанное ей человеческое соучастие.
И Василий Иванович, и Майка были на войне. На Майке, наверное, красовался какой-нибудь молодой кавалерист-генерал — отменно хороша была молодая кобылица! — и, подумав так, Иван Петрович подумал об Алеше, и тотчас прижала сердце непритихающая тревога за его жизнь. Он хотел заговорить о сыне, вызвать Серафиму на утешающий разговор, но промолчал — у женщины хватало своих забот: муж в отходе по трудповинности, пятилетний сын на всю долгую их поездку оставлен без материнского глаза, под присмотром живущей у нее эвакуированной немощной учительницы.
Война все время присутствовала в сознании Ивана Петровича, и все, что случалось на войне, что доходило до него через утренние и вечерние сводки, через рассказы людей, там побывших, отзывалось в нем то гордостью и надеждой, то угрюмой болью. Он мог молчать, мог говорить о будничных, житейских делах, но война, идущая в невидимом ему отдалении, пульсировала в нем, как ток собственной крови, то затихающие, то оглушающие ее удары он чувствовал каждую минуту.
После Сталинградской битвы, после победы под Курском и Белгородом, когда в московское небо взлетели первые победные салюты, Иван Петрович успокоился за общий исход войны, и только тревога за Алешу нет-нет да туманила его нетерпеливое ожидание победы.
Но жизнь, не там, где были фронты, а здесь, в глубоком зимнем затишье приволжских лесов, пока не менялась, шла в тех же, установленных, повторяющихся изо дня в день трудовых заботах. И, привыкнув к этим обязательным, нужным войне заботам, и к другим, мелким, но тоже необходимым заботам по дому, которые хотя и в спешке, но равно старался он делить с Еленой Васильевной, Иван Петрович уже не ждал перемен в своей жизни, по крайней мере до ожидаемого теперь конца войны. И вдруг этот вызов, да еще к самому Никтополеону Константиновичу Стулову!..
В белом пустынном далеке изредка проступало пятно встречного возка, постепенно сближалось, обозначивалось лошадью, санями, бородатым лицом мужика, выглядывающего из-за лошади, слышался беспокойный отклик: «Эге-гей!.. Разминемся ли?!» Мужичонка предупредительно соскакивал с саней, утопая в снегу, обводил под уздцы лошадь целиной, и — снова бежала под полозья безлюдная, с желтоватостью редкого лошадиного помета, неровная стежка одинокой среди снегов дороги, открытые матово-синие взгорки, темные клинья залесенных оврагов, деревеньки по косогорам с редкими дымами над ватно-пухлыми крышами, сплошь засугробленные леса вдоль невидимой Нёмды да широкий прогляд небесной синевы сквозь морозный, стоящий над полями туманец, — простор, тишь обезлюдевшей в войне России!
Что-то невыразимо грустное, светло-печальное рождалось от вида пустых полей, деревенского безлюдья, одинокости их возка в снеговых просторах, от общей нетронутости игристого холодного сверканья в снегах и в самом воздухе.
И долго еще, пока в неспешной торопливости они ехали, казалось, по нескончаемой дороге, держал Иван Петрович у сердца это щемящее и тревожное ощущение Родины.
2Жизнь в своем извечном движении по огромным галактическим спиралям, по спиралям земным и но крохотным спиралям отдельной человеческой судьбы завершала очередной свой виток, — повторялось то, что уже было: снова, и по вызову товарища Стулова, Иван Петрович ехал теми же зимними дорогами, с такими же раздумьями о себе, о том, что могло его ждать в еще не скором конце пути.
Нельзя сказать, что неожиданный и категоричный (как всё у товарища Стулова), срочный вызов в обком партии совершенно не волновал Ивана Петровича: проехать на лошади почти две сотни верст пустынными зимними дорогами, при общей скудости жизни военной поры, уже было заботой. Но само душевное состояние, в котором он ехал теперь, заметно отличалось от прошлой, памятной ему, поездки. Какой-либо вины, за которую предстояло бы оправдываться, он не знал за собой; причину вызова предугадывал, хотя бы по тому, что, прежде чем явиться в обком, должен был заехать в леспромхоз «Северный», на месте, как указывалось в телеграмме, ознакомиться с положением дел. Означать это могло только одно: «Северный» выбился из плановых заданий, и товарищ Стулов вынужденно отступал от своих, жестких по отношению к нему, позиций. Всем опытом большой и малой своей работы Иван Петрович знал, что ощущение прочности своего бытия человек обретает не от состояния собственного здоровья и не от благополучия в домашнем своем устройстве — ощущение прочности жизни и душевного спокойствия всегда приходило к нему от дела, от успешности дела. Дело было главной опорой его жизни. И чем крепче, лучше, зримее образовывалось его усилиями большое, малое ли, в столице или в глухом, не очень-то приметном уголке России порученное ему дело, тем определеннее, прочнее становилось и душевное его состояние. Такое устоявшееся ощущение прочности было у Ивана Петровича теперь, когда, неумело успокоив Елену Васильевну, он отправился в дорогу. И, ощущая свое душевное спокойствие, он определенно знал, что шло оно от успешности того, пусть малого, но нужного дела, которое сейчас он исполнял. Когда по зимней Волге, санными дорогами, приходили в поселок обозы, загружались ружейными болванками, сухо постукивающими на морозе лыжами, гладкими шуршащими листами авиационной фанеры, производство которой с трудом, но удалось ему наладить в небольшом своем леспромхозике; когда по весне, по мутным неспокойным волжским водам, буксиры уводили длинные, медлительно изгибающиеся плоты, красновато отсвечивающие в жарком солнце ребристой плотностью сосновых стволов, а в подогнанные баржи грузили рудстойку для шахт освобожденного Донбасса, он, глядя на этот овеществленный труд, в котором была значительная доля его ума, нравственной и физической его энергии, испытывал не просто удовлетворение делового человека — он обретал спокойствие и так ценимое им ощущение прочности своей жизни, малой части обозреваемого им целого, которым всегда была для него жизнь его страны.