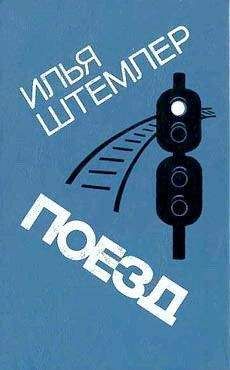Богдан Сушинский - Путь воина
– Почему вы так решили, виконт? – спросил Барберини, сомнамбулическим голосом ангела-хранителя.
– Потому что времени, отделяющего ваш нынешний визит от предыдущего, вполне хватило, чтобы отправить гонца в Ватикан и дождаться его возвращения с новой буллой, текст которой, как водится, подготовлен был вами еще здесь, в Париже.
Только теперь Барберини решился окончательно открыть глаза на поднадоевший ему мир и, взявшись руками за подлокотники кресла, даже слегка приподнялся, словно намеревался немедленно покинуть приемную первого министра.
– На вашем месте, виконт де Жермен, я, конечно, размышлял бы точно таким же образом. Но в отличие от вас никогда, ни при каких обстоятельствах не решился бы объявлять плоды своих размышлений, – желчно поиграл исхудавшими желваками опытный церковный дипломат. – «И пусть это станет тебе уроком», – теперь уже мысленно изощрялся он, пытаясь уловить на лице виконта хоть какие-то признаки смятения.
Не по чину смышленый, колким остроумием своим напоминающий своего патрона, – канцелярист уже начинал раздражать Барберини. Он привык к тому, чтобы каждый в этом мире знал свое место. «Возможно, чин и не всегда соответствует достоинству человека, – размышлял он. – Зато человек всегда обязан соответствовать чину. В противном случае человеческое сообщество потеряет не только Божье право на свое существование, но и Божий смысл его».
– Вашу мудрость я счел бы беспредельной, – вежливо склонил голову виконт, – если бы не одно обстоятельство. Какова ценность плодов, коих ты не способен вкусить?
– Плодами должен наслаждаться тот, кто взращивает их, досточтимый виконт де Жермен, – парировал нунций, оставляя свое лицо все таким же беспристрастным, каким оно было, по всей вероятности, со дня рождения.
Генералы и впрямь долго у первого министра не задержались. Оба подтянутые, худощавые, они покинули его кабинет с багровыми от досады лицами, преисполненные гнева и неистребимой самоуверенности.
«А ведь такой гнев генералов могло вызвать только стремление первого министра как можно скорее покончить с войной, – подумалось Барберини. – Уже убедившись в том, что десятилетиями тянущейся войны не выиграть, они тем не менее не намерены складывать оружие. Оно и понятно: война – это их, Господом завещанное время».
– Теперь-то Мазарини готов принять меня? – поинтересовался нунций у секретаря, когда тот вышел из кабинета. И был удивлен, услышав:
– Вот теперь как раз не готов. Первому министру нужно несколько минут, чтобы осмыслить предложения, высказанные генералами.
35
Когда Барберини в конце концов вошел в кабинет кардинала, тот сидел у едва освещенного пламенем камина и при свечах читал какую-то книгу. Нунция, привыкшего к тому, что поведение всякого человека, с которым ему приходится иметь дело, способно сказать значительно больше, нежели его слова, это слегка озадачило. В то же время теперь он понимал, почему секретарь впустил его с некоторым запозданием. Даже заметив, что нунций уже вошел в кабинет, кардинал все еще позволил себе прочесть несколько строк, и лишь после этого повернул кресло к массивному, затянутому красным сукном столу. Положив книгу справа от себя, чтобы оставалась под рукой, он пригласил нунция присесть к приставному столику.
– Библия, досточтимый нунций, Библия, – объяснил он, заметив, как прежде чем опуститься в отведенное кресло Барберини до предела вытянул свою «свежеощипанную гусиную» шею, пытаясь понять, что же так увлекло кардинала в промежутке между аудиенциями, данными генералам и нунцию.
– А ведь кое-кто уверен, что, заняв пост премьера, вы совершенно отреклись от святочтения, – озабоченно проворчал посол и, словно бы не поверив кардиналу, все же позволил себе перегнуться через стол и взглянуть на обложку фолианта. Это была обычная церковная Библия, изданная весьма скромно и совершенно непохожая на те роскошные издания, которые печатались теперь не только в Ватикане и в монастырях, но и в некоторых гражданских типографиях.
– После каждой беседы со своими генералами я вынужден прочитывать хоть полстранички Святого писания, дабы отрешиться от того, что гонит их ко мне, заставляя требовать все новых и новых солдат, пушек, зарядов, и все больше провианта. И так без конца: солдат, пушек, зарядов, провианта; солдат, пушек… Причем самое страшное, что всем этим действительно приходится их снабжать, да к тому же делать это все более охотно, – потянулся он через стол к нунцию, воинственно упираясь руками о стол. – Да-да, не удивляйтесь, нунций Барберини, все более охотно.
– Мне это понятно, ваше высокопреосвященство – каково чувствовать себя первым министром, когда требовать начинают генералы… Как понятно и то, почему вы вновь и вновь вынуждены продлевать эту войну.
Чрезмерно смиренный вид Барберини всегда приводил первого министра в уныние. Но сегодня папский нунций выглядел как-то слишком уж загробно. Лицо его казалось маской, сотворенной из скелета и старинного полуистлевшего пергамента; а руки, которыми он судорожно, как старый орел – добычу, держал кожаную папочку с двумя золотыми застежками, все еще дрожали, но уже напоминали полуистлевшие конечности некстати ожившей мумии.
Именно на этой папочке Мазарини и задержал свой взгляд. Кардинал помнил ее со времен прошлых посещений нунция, и порой ему в самом деле казалось, что всевозможные послания и благословения, которыми она постоянно была напичкана, создавались не в папской канцелярии в Ватикане и даже не в резиденции папского нунция в Париже, а прямо в ней. Под буйволиной шкурой этой объемистой папки всякий угодный текст на пергаментах и бумагах проявлялся по воле самого нунция, как кровавые очертания – на голгофной плащанице.
– Если бы ваши речи могли слышать французские генералы, они наверняка возразили бы вам, – хрипло молвил Мазарини, с трудом отведя взгляд от ветхозаветного хранилища папских посланий-булл.
– И что же они сказали бы, окажись свидетелями нашего разговора?
Мазарини поднялся, подошел к камину и долго смотрел в угасающее пламя. Ему вдруг вспомнился недавний визит посла в Польше генерала графа де Брежи. Обменявшись всего несколькими фразами, они тогда битых полчаса сидели, задумчиво глядя на огонь и не ощущая при этом никакой потребности в общении. Это было молчание единомышленников. Никогда и ни с кем кардиналу не молчалось столь красноречиво и столь благодушно, как с этим генералом-послом. И когда, в завершение встречи, де Брежи все же вынужден был согласовать с первым министром несколько вопросов, Мазарини с сожалением признал, что таким образом тот испортил весь шарм их встречи.
– То, что вы услышите в следующую минуту, должно оставаться сугубо между нами, досточтимый нунций, – молвил наконец Мазарини, все еще не отрывая взгляда от огня.
– То есть хотите сказать, что желаете воспользоваться правом исповеди? – подсказал ему Барберини наиболее приемлемый способ самооправдания.
– Исповеди? – коротко рассмеялся кардинал. – А что, и в самом деле. Тем более что, говоря откровенно, за всю свою жизнь я так ни разу не исповедался.
Джулио-Раймондо оглянулся, желая видеть, какое впечатление это произведет на нунция. И убедился, что, решительно покачав головой, тот дает понять: «Не верю этому!».
– Нет конечно же… перед принятием сана, я, как и полагается… Но, видит Бог, ничего общего с исповедью это не имело.
– То, что только что сказано вами, тоже можно считать исповедью, – поспешил заверить его Барберини, ожидая услышать нечто более интересующее его, нежели сие скудное признание грешника кардинала.
– Естественно, причислять к исповеди можно все, что угодно, – согласился Мазарини, поворачиваясь лицом к камину и вновь надолго умолкая.
Граф де Брежи утверждал, что только бездумное созерцание полуугасшего камина позволяет ему заглушить тоску по родине. Так, может быть, и его самого, сицилийца Мазарини, зево камина привлекает именно этим свойством: утолять тоску по родине, подавляя и развеивая убийственную ностальгию.
– То есть вы не согласны с моим предположением?
– К сожалению, я принадлежу к той категории людей, искренне исповедаться которые могут, только стоя с петлей на шее. Да и то вряд ли мне удалось бы преодолеть сомнения. А что касается генералов, то они поведали бы вам, что это не премьер-министр Франции вынужден продлевать войну под их нажимом, а скорее, наоборот – они бросают все новые и новые полки, как вязки хвороста в огонь, под нажимом премьер-министра.
Барберини хотелось выразить свое крайнее удивление, а возможно, и возмущение – пусть даже слегка припудренное дипломатичностью, но в отчаянной поспешности он захлебнулся словами и чувствами.
– Вы? – едва пробился его голос сквозь спазм гортани. – Это вы настаиваете на продолжении войны? Даже вопреки воле своих генералов?! Но ведь и здесь, в Париже, как и в Мадриде, Риме, в самом Ватикане, считают, что вы, кардинал, крайне возмущены этой войной и, прибегая ко всем возможным мерам, пытаетесь погасить ее. Сам папа считает вас величайшим миротворцем Европы.