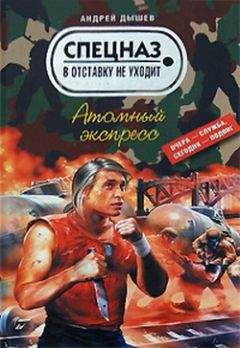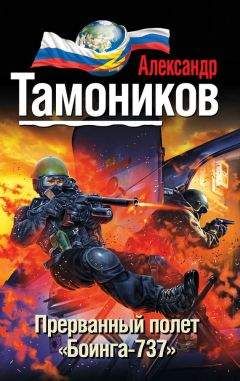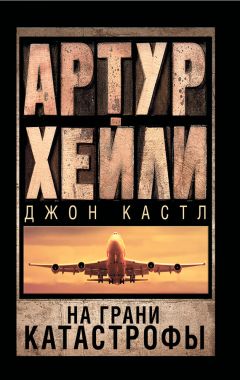Марин Ионице - На крутом перевале (сборник)
— Рядовой, напра-во! — Я подаю сам себе громким голосом команды и стараюсь исполнять их как можно четче.
— Ну так вот, дружок, как сказала бы рыба… — продолжает вчерашний разговор рядовой Кэбуля.
— Рядовой, напра-во! — командую сам себе и поворачиваюсь на 90 градусов.
— Ну так вот, с матраца на меня сыпалась кукурузная мука, как на мельнице, — не думайте, что это шутки.
— Рядовой, сми-ир-но!
— Не знаю, приходилось ли вам бывать в ситуации, когда очень хочется чихнуть, а нельзя. Глаза мои, готовые выскочить из орбит, стали от напряжения как луковицы.
— А он что? — подгоняет его нетерпеливый Чернат.
— А он входит в дом, как обычно входит муж в свой дом. Он или ничего не знал, или прикидывался, что ничего не знает. Жена юлит, ластится к нему. Затем они начинают обниматься.
— Рядовой, сми-и-рно!
— Ну а ты?
— А что, я лежу под кроватью!
— А он?
— Он, дорогуша, поднял ее на руках, понес на кровать.
И они продолжили свои любовные игры как раз надо мной, — черт меня побери, если вру. Тогда-то матрац и треснул.
— Ну а ты? Где ты это вычитал?
Одни смеются, другие просят продолжать. Рассказчик запнулся, словно проглатывая застрявший в горле комок. Но какое это имеет для меня значение? Я должен окончить своя упражнения.
— Рядовой, напра-во!
— Ну и как ты выбрался оттуда, из-под кровати?
— Видите ли, это длинная история, и она как в кино…
— Рядовой, сми-и-рно!
Наш стаж армейской службы исчисляется всего лишь несколькими неделями, и плац, учебное поле истоптаны туфельками призрачных женщин, девушек, которые жили в солдатских рассказах, которых любили солдаты или воображали, что любят.
— Мы оба учились в школе. Она носила косички…
У всех солдат перерыв. Я один отрабатываю стойки и повороты. Сегодня они не очень-то удаются, и поэтому мой перерыв сокращен наполовину.
— Рядовой, напра-во!
Остальные не обращают на меня внимания, и это меня устраивает. Они шутят, рассказывают солдатские байки, а я отрабатываю стойку «смирно» и повороты на месте.
У рядового Негоицэ тоже была «история» с девушкой. Только он начинает травить, как его рассказ забивает прекрасный голос рядового Бузилэ:
Любовь к девушке —
Что фасоль в котле.
Добавишь горстку соли —
Она разбухнет до…
Я не узнал, до какой степени и когда разбухает фасоль в котле, так как раздался сигнал приступить к занятиям.
Сейчас у нас индивидуальная строевая подготовка. Каждый сам себе командир и рядовой. Сержанты стоят рядом и, если надо, поправляют:
— Выше подбородок!
— Взгляд приблизительно на 15 метров!
— Носки сапог должны образовывать угол в 45 градусов!
— Подобрать живот!
— Грудь вперед!
— Плечи на одном уровне!
Первое, с чем я столкнулся во время прохождения курса молодого бойца, была стойка «смирно». Отрывистая команда — и человек превращается в каменное изваяние. Команда всего лишь из двух слов — и взвод солдат застывает как груда скал. Команда из двух слов — и батарея, дивизион, полк солдат превращаются в лес статуй.
Все, что происходило, — захватывало, как будто ты находишься во власти какой-то магической силы. В то же время во мне что-то противилось этому. Что ж это за стойка «смирно» и почему она доставляет столько хлопот? В моем понимании, на моем тогдашнем уровне, гораздо важнее научиться было бегать, ползти по земле, преодолевать препятствия, стрелять из винтовки, автомата, даже мыть лестницы и коридоры, что-нибудь, в конце концов, делать, чем уметь стоять как каменный идол. На мой взгляд, даже интересно заняться статистикой: сколько часов, дней солдаты проводят в положении «смирно». Сколько человеко-десятилетий, человеко-веков или человеко-тысячелетий потратило человечество на пребывание в положении «смирно».
Но еще не окончился учебный день, первый учебный день, а я уже пересмотрел свои взгляды. Сейчас это положение нахожу основным, значительным.
Из этого положения начинают выполнять все основные стойки и повороты и к нему возвращаются каждый раз.
Положение максимального равновесия — как столб между землей и небом, как невидимая ось, вокруг которой вращается человечество. Я отдавал себе отчет в том, что это была именно та позиция, которой мне недоставало и в другом плане, а именно — твердая позиция, став на которую, я мог обрести себя вновь.
Все мои заблуждения, включая уход из дому, — безрассудный бег по жизни в поисках какого-то несуществующего равновесия, для которого якобы достаточно опереться всего лишь на пятки.
— Рядовой, сми-и-рно!
— Смотреть прямо перед собой!
— Ноги вытянуты! Колени не сгибать! Солдат… «Орлиный взгляд, стальная грудь, ее пули не возьмут» — как поется в песне.
* * *Зина. Еще одно мое смятение. Одно из моих самых больших смятений.
— Запомни раз и навсегда — у нас нет никаких родственников!
Мы вскормлены молоком одной женщины. Есть вещи, которые запоминаются не как случайность, они остаются на всю жизнь как внутреннее ощущение. Это ощущение добра, оно и сейчас со мной.
Говорят, нас нельзя было накормить по очереди: если подносили меня к груди первым — я отказывался сосать, а если давали грудь раньше ей — я кричал до посинения. Так что женщина вынуждена была кормить нас обоих сразу. Какое это было мученье для нее, но не для нас, малышей.
— У нас нет ни родственников, ни друзей семьи. Если тебя кто-то спросит — отвечай только так.
Первым живым существом, которого я коснулся, когда протянул руку в мире, — была маленькая Зина. Своими еще неуверенными ручонками мы ощупывали лицо, глаза, губы, мы, вглядываясь друг в друга, пытались что-то понять в этом большом мире.
— Тем не менее, сестра, выбрось эту глупость из головы.
— Но почему?
— Потому что это чистейшая правда, и нет никакого смысла выдумывать что-то другое.
В комнате стояли две детские кроватки, но я устраивал настоящие истерики, если нас с Зиной разлучали. Мы лепетали и плакали вместе. Особенно заразительны были смех и улыбка. В нас звенели одни и те же колокольчики, мы мусолили одни и те же игрушки, и нас даже выкупать не могли иначе как двоих сразу.
— Была случайность. Ты это поймешь позже. А пока ты должна знать, что это не более чем простая случайность.
Но было и первое обнаженное тело, которое я увидел. Наверное, тогда мы стали уже довольно взрослыми, раз я все еще помню это, и довольно отчетливо. Помню, как был изумлен, обнаружив, что наши тела не совсем похожи, что существует небольшое отличие, но отличие довольно странное. Позже я стыдился своих мыслей. По этой причине я и старался избегать Зину, достигнув отроческого возраста, когда многие вещи уже начинают смущать. Как бы то ни было, но сначала у нас друг от друга секретов не было.
Время от времени нас двоих отвозили, именно двоих, так как разъединить нас было невозможно, в какую-то странную больницу. Там я почему-то должен был позволять какой-то женщине брать себя на руки и целовать. У женщины было бледное, почти бесцветное лицо, и она не могла сдерживать слезы. А я должен был называть ее «дорогая моя мамочка». Еще там был мужчина, гражданский, но всегда очень важный и строгий. Я его не боялся, но терпеть не мог. А он брал меня на руки, и я его должен был называть «папочка», чего, правда, никогда не делал.
В эти моменты я всегда чувствовал несправедливость: почему эта женщина, от которой пахло медикаментами, не возьмет Зину тоже на руки и не поцелует? И почему Зина не называет ее «моя дорогая мамочка»? И почему ее не обнимал этот противный хмурый мужчина, у которого рука как бревна?
А между поездками были добрые, наполненные миром, спокойствием и радостью дни, когда нас ничто не разлучало.
— Я — это ты.
— И я — это ты!
— Ты — это я.
— И ты — это я.
Но вот как-то вечером, когда уже совсем стемнело, как в сказках о чудовищах, явился тот строгий мужчина. Он взял меня на руки и стал объяснять:
— Ты уже совсем большой мальчик. Да и мама вернулась из санатория. Пора тебе ехать домой.
Я ничего не понимал. Что бы это могло значить? Да, я уже большой мальчик — я бегаю по двору, лазаю через забор, умею включать телевизор, строить замки, а Зину превращать в принцессу и драться за нее с разными змеями и драконами, я уже достиг Луны и летал к звездам. Но что означало ехать из дома домой — не догадывался, как ни ломал голову. Прежде чем я что-то понял, та женщина, которая меня вскормила, растила и купала, одела меня по-дорожному. Я не противился, так как был уверен, что речь идет об одной из обычных прогулок, и ждал, что сейчас оденут и Зину. Но этого не произошло. Тот чужой мужчина мягким голосом сказал: «Ну, пойдем, деточка». Я все еще не понимал, что происходит. Тогда он поднял меня на руки и, не обращая внимания ни на мои крики, ни на то, что я колочу его ногами в живот, — ни на что не обращая внимания, посадил меня в машину и увез.