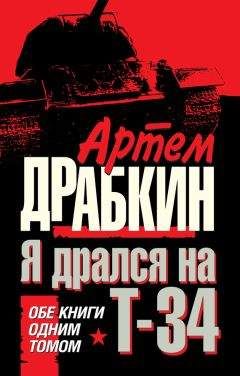Артем Драбкин - Я дрался на танке. Продолжение бестселлера «Я дрался на Т-34»
— С закрытой позиции приходилось стрелять?
— Нет. Только с открытой, прямой наводкой. Использовали как танк. На стрелковую дивизию давали одну батарею. Я командир батареи, при дивизии. Дадут направление, и ты тянешь. Впереди пехоты. Действовали как танк.
— С немецкими танками сталкиваться приходилось?
— Нет. По бронетранспортерам несколько раз стрелял. Когда в контратаку шли, там две танкетки финские. С первого выстрела — пушка очень хорошая. И в Прибалтике тоже. Бронетранспортеры пошли, с какой целью не знаю, но попали нам под прицел. Подожгли их.
— Трофеи были?
— Нет.
— Шоколад?
— Нет. Единственное, когда по территории Карелии шли, населения не было, в дом зайдешь, можно что-то взять. Валяная рыба висит, сушится. Это прихватывали. Двух пленных взяли с вещмешками. Солдат потрясли, нашли сахарин. Шоколада не было. Какие-то шмотки. Шмотки не нужны были.
В Прибалтике тоже население скрывалось. Общения с населением не было. Единственное, были случаи, когда скот оставался. В хутор заскочили, населения нет, куры, гуси бегают, в хлеву баран кричит, овцы. Были случаи, для общего котла резали.
Калиненок Марат Александрович
Я родился 21 июля 1925 года в Казани, потому что в то время мой отец, который был военным, преподавал в военной татаро-башкирской школе. Вообще со мной получилось довольно интересно: имя французское, фамилия белорусская, родился в Татарии, а сам русский.
И тем, что меня назвали в честь Жан-Поля Марата — «друга народа» и одного из героев Французской революции, я тоже обязан своему отцу. Он родился на окраине Белоруссии, в местечке Рудня, в обычной крестьянской семье, но потом попал в водоворот революционных событий, участвовал в Гражданской войне, в бою под Перекопом был ранен. Вступил в комсомол сразу после его создания еще в 1918 году, а уже в 20-м и в партию. Всю жизнь прослужил политработником в армии и, являясь убежденным коммунистом, подобрал для меня такое «революционное» имя.
А мама у меня из семьи московских рабочих. Ее семья жила на Малой Грузинской улице, отец работал каллиграфистом, и она сама в юности тоже работала в типографии словолитчицей, но после того как вышла замуж, то уже занималась только домом. Ведь у нас в семье было восемь детей, из которых я был самым старшим.
— Расскажите, пожалуйста, о довоенной жизни вашей семьи. Где вы учились, задумывались ли о том, кем хотите стать в будущем?
— Отца по службе часто переводили с одного места на другое, поэтому мне пришлось учиться в школах разных городов. В первый класс я пошел в Энгельсе, потом учился в Ленинграде, в Куйбышеве, в Карачеве, а войну встретил уже в Конотопе, где отец служил комиссаром военного авиационного училища.
Еще в школе у меня уже появилась мечта — стать историком, и, например, во время гражданской войны в Испании я внимательно следил за сводками боевых действий и даже рисовал карты. И еще в детстве я очень много читал. Например, до сих пор храню отцовский трехтомник «История Гражданской войны», который, несмотря ни на что, я провез через все эвакуации. Еще у нас были книги из серии «Библиотека офицера», и после войны отец сильно жалел, что мне не удалось их сохранить. Но как я мог о них думать, когда мы с мамой везли пятерых детей, да еще и чемоданы. Зато моя мама умудрилась сохранить швейную машинку «Зингер», которая у нас до сих пор хранится в качестве семейной реликвии.
— Спортом занимались?
— Конечно, особенно мне нравился велосипедный. Одно время я и в футбол играл, вратарем, но как-то мне на поле сильно засыпало песком глаза, и после этого решил с футболом завязать.
— Ваш отец был кадровым военным. Его никак не затронули политические репрессии?
— С 1934 года мы четыре года прожили в Ленинграде, потому что отец учился в Военно-политической академии имени Ленина, получил там звание летнаба, и я помню, что среди руководителей академии были проведены аресты. Например, мы жили в коммунальной квартире на одной лестничной площадке с начальником академии, которого вначале отправили служить куда-то в Среднюю Азию и уже там арестовали. Отец, наверное, об этом знал, но мы узнали об этом, когда однажды ночью в его квартире устроили обыск. Над нами жил начальник штаба академии, так его тоже арестовали при нас, но моего отца не тронули.
Мне, кстати, довелось видеть живого Кирова. Когда асфальтировали улицу Воинова, то мы с ребятами увидели, что собралась толпа народу. Подбежали и увидели, что люди собрались вокруг какого-то человека, и только потом узнали, что это, оказывается, был сам Сергей Миронович Киров. А когда его убили, мне довелось увидеть и все наше правительство, включая и самого Сталина, потому что мы жили на улице Слуцкой, около музея Суворова, а это совсем недалеко от Таврического дворца, в зале которого для прощания был выставлен гроб Кирова. Но то, что это были сам Сталин, Ворошилов и другие наши знаменитые руководители, мы узнали только позже.
— Лично у вас были предчувствия скорого начала войны? Может быть, на эту тему вы разговаривали с отцом?
— Конечно, общее предчувствие было, потому что всю нашу страну и нас, молодежь, в частности, словно исподволь готовили к защите Родины и социалистических завоеваний. Все эти патриотические фильмы, песни, военная подготовка, все это, конечно, настраивало на боевой лад, но у нас, подростков, именно конкретного ощущения скорой войны не было. Мы о таких серьезных вещах еще не задумывались, а с отцом на такие темы я в то время не разговаривал, в этом отношении он был с нами скуп и своими мыслями не делился.
— Как вы узнали о начале войны?
— Как я уже сказал, в то время мы жили в Конотопе, потому что отец там служил заместителем начальника авиационного училища по политчасти. И еще в 4 часа утра его по тревоге срочно вызвали в училище, а уже через полчаса он нам позвонил: «Война!», хотя по радио об этом было объявлено только в 12 часов дня. Первое, что мы с ребятами подумали: «Вот сейчас наши им дадут!» Когда 23 июня немецкие самолеты прилетели бомбить училищный аэродром, мы полезли на крышу нашего четырехэтажного дома, чтобы увидеть, как немцам дадут прикурить. Но как посыпались бомбы, то мы аж покатились с крыши… Вот тут мы и поняли, что война — это не шутка… Но у нас у всех было одно общее желание — пойти на фронт.
В начале августа училище начали готовить к эвакуации. Но семьи комсостава было решено отправить в тыл раньше, поэтому отец остался в училище, а мы с мамой и пятерыми моими младшими братьями и сестрами, где-то за неделю до падения Киева, отправились в Башкирию, куда добирались дней двадцать.
— Насколько организованно проходила эвакуация?
— Достаточно организованно, хотя, конечно, пришлось увидеть и много неприглядного. Правда, у нас в эшелоне ничего такого не было, но как-то на одной из станций под Куйбышевом мы видели драпающих из Москвы высоких чинов. Возле эшелона, состоящего из пассажирских вагонов, стояли часовые, и потом мы узнали, что это арестовали драпанувших «шишек»…
А так, что вам еще рассказать? Посадили в каждую теплушку по 3–4 семьи, причем и вещей особенно и не было, потому что у военных почти все казенное, так и ехали.
— В дороге ваш эшелон бомбили?
— Под бомбежку мы попали один-единственный раз на перегоне от Конотопа до города Суммы. Но нам повезло, потому что прямых попаданий не было и обошлось без потерь.
В общем, кое-как доехали в Белорецк. Там я записался в школу, но уже на второй день нас мобилизовали для работы в колхозе. Мне вручили подводу, и я возил на ней картошку из колхоза в город.
Но оказалось, что училище отправили в Грозный, поэтому месяца через два за нами прислали одного старшину, который забрал нас и семью Крассовских, и мы через Сталинград поехали на юг. Буквально за неделю до падения Ростова успели проскочить узловую станцию Тихорецкую и уже 24-ю годовщину Октябрьской революции встречали в Грозном.
Накануне ее в городском театре устроили торжественное собрание, а после перерыва даже дали небольшой концерт. И мне особенно запомнилось, что на это собрание пришли представители только что сформированной чеченской дивизии, которую мы тогда называли «дикой». Причем одеты они были с иголочки: в папахах, с козырями, с автоматами. В общем, эти красавцы нас приветствовали, а уже ночью подняли восстание и все сбежали в горы… И это восстание разным частям пришлось подавлять 22 дня.
— В этот очень непростой период для нашей страны у вас не появились мысли, что мы можем проиграть войну?