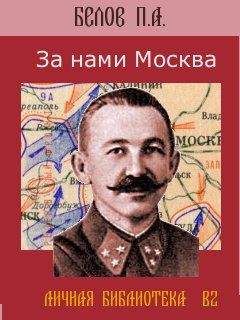Георгий Зангезуров - У стен Москвы
— Допустим, что это и так. Но факты. Вам каждый час докладывают, что русские концентрируют свои силы в центре. Вы должны на что-то решиться. Решайтесь.
— В таком случае придется и мне некоторые части передвинуть к центру.
— Значит, передвинешь? — обрадовался Громов.
— Пусть русский командующий особенно не радуется. Передвину, но не все. Фланги я не могу совсем оголить.
— Ну, все-таки часть войск переместишь?
— А что мне остается делать?
— Вот спасибо.
Громов заметил, что начальник штаба с недоумением смотрит на него.
— Не понимаешь?
— Понимаю, но не совсем.
— Сейчас поймешь. Снимай с себя к чертям шкуру Мизенбаха со всеми его высокими титулами и «фонами».
Тарасов поближе подошел к столу и тоже посмотрел на карту, потом спросил:
— Не собираетесь же вы и в самом деле отказываться от своего первоначального замысла и перенести главный удар в центр, штурмовать Березовск в лоб?
— Нет, конечно.
— А передвижение войск?
— Но ведь дороги идут не только от флангов к центру, а и наоборот. Почему бы людям не прогуляться по воздуху вдоль фронта?
— И той же дорогой вернуться назад?
— Нет, это будет скучно. Один и тот же пейзаж надоедает. От центра назад они пойдут в обход, по тыловым дорогам и притом ночью.
Тарасову все стало ясно. Командующий решил обмануть немцев, ввести их в заблуждение, заставить распылить силы, а потом нанести удар в тех же местах, где наносил и вначале.
— Но тогда и в центре придется атаковать немцев, чтобы сковать те части, которые они стянут туда.
— Обязательно. В центре будут наступать Овчинников и Игнатьев.
— Какой Игнатьев? У нас нет такой дивизии.
— Не было. А теперь есть. Командующий фронтом из своего резерва дал.
— Гнев на милость сменил, значит.
— В следующий раз я тебя пошлю за такой милостью.
— Готов, если после каждой взбучки генерал армии будет давать мне хотя бы по одной дивизии.
В комнату быстро вошел Кленов.
— Товарищ командующий, возьмите трубку. Звонит Полозов. К нему пробились связные от Кожина.
Громов взял трубку.
— Слушаю, Владимир Викторович. Когда? Только что? Забирайте их — и ко мне. Я жду вас, — распорядился командующий.
Не прошло и часа, как Полозов, держа правую руку перед грудью на широкой марлевой повязке, вошел к Громову.
— Ну, что? Где же связные Кожина? — не дав комдиву и опомниться, спросил Громов.
Тот доложил, что из сводной группы выслано два бойца. Один из них убит в пути. Другой добрался до штаба дивизии почти в бессознательном состоянии. Был ранен, потерял много крови.
— Успел он хоть что-нибудь сообщить?
— Успел. На радиосигналы Кожин не отвечал потому, что рация вышла из строя. Подразделения его сводной группы охвачены немцами со всех сторон. Незанятым остался только узенький коридор в сторону Горелого леса. Но уже завтра Гюнтер может перехватить и его. Немцы атакуют наших днем и ночью. В батальонах большие потери. Много убитых и раненых.
— Убит, ранен, пропал без вести, — выдохнул Громов и зашагал по комнате. — Ведь вот не в первой войне участвую, а до сих пор не могу привыкнуть к таким словам.
— К этому трудно привыкнуть, — с грустью сказал Полозов.
— Да, трудно… Ну, а как Кожин?
— Ничего, воюет, товарищ командующий.
— «Воюет»… Вы видели снимки местности, которую удерживает сейчас Кожин со своими людьми?
— Нет.
— Взгляните. — Громов взял со стола несколько фотографий и передал их комдиву.
Владимир Викторович внимательно просмотрел их.
— Да-а-а… — только и сумел вымолвить полковник.
— А вы говорите: «воюет». Не каждый бы сумел воевать так, как он. А мы… даже трибуналов грозили ему. Все его «грехи» собрали в кучу.
Генерал Тарасов, чувствуя, что камешки летят главным образом в адрес его штаба, принял стойку «смирно» и так, нахмурившись, слушал упреки командующего.
— И командир дивизии тоже хорош. Избивают лучшего командира полка, а он и в ус не дует. Боится против начальства слово сказать, заступиться за человека!
— Товарищ командующий, — взмолился наконец полковник.
— Что? Возражать будешь? Мол, писал я вам, докладывал, спорил с комиссиями? Значит, плохо спорил. За хорошего человека надо не так спорить. За него горой надо стоять. Что еще сообщил этот боец?
— У Кожина на исходе патроны.
Громов остановился перед начальником штаба, приказал:
— Распорядись, Владимир Иванович. Первое: на парашюте сбросить Кожину рацию. Второе: доставить патроны. Как можно больше патронов и гранат.
Тарасов сделал запись в блокноте.
— А как у него со снарядами?
— Снаряды пока есть. В октябре, когда полк Кожина отходил от высоты Березовой, он не смог сразу поднять весь запас снарядов. Их зарыли. А теперь эти запасы пришлись кстати.
— Так. Ясно.
— И еще Кожин передает, что удерживать перекресток дорог больше нет никакой возможности. Еще день он, может, и сумеет продержаться, а дальше… Он просит разрешения оставить перекресток и следующей ночью вывести людей из мешка. Он хочет увести свои подразделения в лес, дать им хотя бы однодневный отдых, а потом снова перехватить дорогу, но уже в другом месте.
— Конечно, группа Кожина — кость в горле Мизенбаха. Она перехватила основную магистраль, связывающую его с тылами четвертой немецкой армии. Мешает подтягиванию к фронту резервов, подвозу боеприпасов и продовольствия. А раз это так, Мизенбах примет все меры, чтобы в ближайшие же дни покончить с ней. В таких условиях Кожину, пожалуй, и не остается никакого иного выхода… — сказал Громов и снова посмотрел на Тарасова: — Надо вместе с рацией сбросить вымпел. Записывай…
И Громов стал диктовать текст, Тарасов записывал.
— Записал?
— Записал, — ставя точку, ответил Тарасов и взялся за телефонную трубку, чтобы отдать необходимые распоряжения.
— Добро. Теперь дело за вами, Владимир Викторович. Вам для выполнения особой задачи придаются новая танковая бригада и мотострелковый полк.
— Спасибо, товарищ командующий.
— Теперь смотрите сюда.
Командующий и Полозов склонились над развернутой картой…
10
За прошедшие два дня немецкой артиллерией были разбиты почти все блиндажи и землянки подразделений Кожина. На том небольшом клочке земли, который еще удерживали советские бойцы, оставалось всего несколько укрытий.
В большой полуразрушенной землянке в этот вечер отдыхали воины из ближайших к штабу подразделений. Некоторые из них, укрывшись с головой своими полушубками, спали. Другие, прислонившись спинами к промерзшим стенам, молча курили и думали о своей нелегкой солдатской судьбе. В землянке был полумрак. Задумчивые, хмурые лица бойцов освещались только отблесками пламени из печки.
Было тихо. Потом кто-то сказал:
— Э-эх, черт, вырваться бы только из этой ловушки…
— «Вырваться»… Черта с два теперь фрицы выпустят нас из своих лап, — с тревогой возразил Павлов: — Мы дороги держим, а они — нас.
— И разведчики не вернулись…
— А может, они и не дошли до наших?
— Зря не пустил меня майор, — вставил свое слово Бандура. — Вот надеюсь на хлопцев своих, как на себя, надеюсь, а все-таки боязно за них. Если бы сам пошел, легче на душе было бы.
У Валерия Голубя тоже было муторно на душе. Он знал не хуже других, в какое положение попал их полк. Но говорить об этом не хотелось. Он некоторое время молча смотрел на огонь, потом взял в руки баян, как-то особенно медленно прошелся пальцами по клавишам и вдруг, растянув мехи, тихо запел:
Ледяное Подмосковье
Чутко спит в тиши ночной.
Захлебнулся алой кровью
Шквал фашистский огневой.
Задумчиво, задушевно выводил Голубь слова песни. Люди, разместившиеся вокруг него, не знали ее слов. Но независимо от этого она уже звучала в их сердцах, билась, рвалась наружу:
Не уснуть бойцу, не спится,
Сна не знает часовой
Под родимою столицей,
Под старинною Москвой.
Голубь только теперь заметил, что песню вместе с ним поют и его друзья-однополчане. Не все, конечно, угадывали, какие слова должны следовать после пропетой строфы, но это никого не смущало. Главное, что она нравилась им, отвечала их душевному состоянию.
И чем дальше, тем увереннее звучала эта песня, тем больше вплеталось в напевный голос Валерия простуженных на лютом морозе, охрипших голосов солдат.
Там солдатский дом родимый, И любовь, и думы с ним.
Клятва наша нерушима —
Мы столицу отстоим.
И вот умолк баян. Отзвучали и последние звуки мелодии, а бойцы все так же сидели вокруг Валерия и молчали.