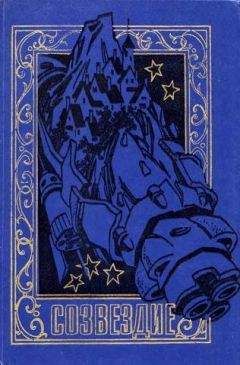Александр Бологов - Один день солнца (сборник)
Бурцев пришел рано, одним из первых в классе, и сел за парту. Всякий раз, когда хлопала входная дверь, он бросал на нее быстрый взгляд. Никто не спрашивал его, отчего это он сидит, не двигаясь с места, ничего в общем-то не делая, а так, попусту, перебирая учебники, тетради, и не сводит глаз с дверей. Всем было известно, что он ждет Золотову.
И она вошла. Вот-вот должен был раздаться звонок, и все уже сидели на местах.
Бурцев первым увидел ее и опустил глаза, нервно сглотнул. Руки его лежали на парте.
Золотова остановилась у входа и четко произнесла:
— Здравствуйте…
И в тишине прошла к своему месту и стала устраиваться. И тут громко стукнула вскинутая крышка — это встал Бурцев. Он сгреб в портфель книги и тетради и молча вышел.
На второй день он перешел в другую школу.
Разговоры с Антоном
н растет не очень быстро, но и не очень медленно; во всяком случае, как нам кажется, от других не отстает.
Перемены в нем замечаются чаще всего в зависимости от нашего настроения. «Господи, — говорит, например, мама, вытаскивая у него из-под подушки железный грузовик, неведомо как появившийся не только в постели, но и вообще в доме, — когда ты поумнеешь, когда станешь хоть чуточку соображать… У тебя что, своих машин нет?..»
«Антоша! — слышу вдруг я из кухни, куда прямехонько, едва успев снять пальто и сполоснуть руки, устремляется обычно наша мама. — Кто же дает Дашке молоко из общей тарелки!..» (Дашка — это наша кошка.) Мама, по всему видно, крайне расстроена — настолько, что не может обойтись без уточнения: «Надеюсь, это не папа ее кормил?..»
С другой стороны, когда однажды Антон вышел ко мне с дымящейся подарочной трубкой в зубах и, желая, очевидно, удивить меня и порадовать, сказал, что накрошил в трубку бумагу и поджег ее моей зажигалкой и что сейчас покажет, как пускать дым носом, — я был поражен его сметливостью. Я сказал, что он у нас чересчур умный. Не по возрасту. Ибо сам я до сих пор не научился курить и тем более, как Змей Горыныч, пускать дым — носом.
А вообще-то он очень маленький. Ему столько лет, что даже и считать не стоит: раз-два — и обчелся, то есть все пересчитал. Но самые любимые его слова — «Я большой». Произносит он их по-своему: «Я босо-ой», и кто-нибудь может и не понять, что он имеет в виду, когда поднимает вверх руки. Но я-то понимаю его. Всякий раз в ответ на эти его слова я согласно киваю головой и говорю: «Да, конечно». Антон смеется.
— Я босо-ой!
— Да, конечно.
— Я, как машина.
— Да, да.
— Я, как дом…
Он тянет ладошку к небу и видит, что она поднялась даже выше дома. И он повторяет уже совершенно уверенно:
— Я, как дом.
Мы шагаем по тротуару. Антон уже без варежек, но рукам зябко, и он засунул одну из них в карман. Другая рука — худенькая и прохладная — прячется в моей ладони. Весенняя капель падает с крыш. Она успела продолбить в земле цепочку маленьких воронок, и Антон то и дело останавливается и смотрит, как капли воды сыплются сверху, догоняют друг друга и высекают искры у самых ног. Его резиновые сапоги осыпаны крошечными бисеринками. Антон нагибается, глядит на них, и восторг зажигает его глаза. Потом он вытаскивает из кармана руку, показывает на побеленные стволы деревьев и спрашивает:
— А кто покрасил деревья?
— Дядя какой-нибудь, — отвечаю я.
— А вот ее кто покрасил? — поворачивается он к растущей на панели березке.
— Это береза, — говорю я как-то неуверенно, — они сами такие…
— Это я покрасил, — говорит Антон и мягко смотрит на меня.
— Ну-у? — совсем теряюсь я. — Как же ты?
— Вот так, кисточкой, — снова выдергивает он руку из кармана и показывает. — Это я покрасил. — Потом, по-своему оценив мое смущение, сжимает мою руку и добавляет — Это мы покрасили…
Один из наших постоянных маршрутов — садик около дома, улица 23 Июля, улица Вокзальная. Мы гуляем и разговариваем.
— Раз — и всё! — говорит Антон и показывает что-то рукой.
— Что все? — спрашиваю я.
— Ветер за угол убежал.
— Боится, нас же двое.
— Я сильный, я сегодня много супу съел, — успокаивает Антон.
— Я тоже.
Он останавливается и смотрит на стенку дома. И я смотрю на прогретые солнцем коричневые доски одного из последних частных домиков на нашей улице.
— На этом доме муха живет, — говорит Антон. — Мы с дедулей видели.
За воротами автопарка стоят тихие желтые «Икарусы». Около них пустынно.
— Автобусы отдыхают, — говорит Антон, — и дома отдыхают. А дедуля совсем не работает, он старый. А Антон молодой. Я пойду работать, получу денежки, куплю что-то.
Он сжимает мне пальцы — это, наверно, означает, что и мне он купит что-нибудь, и я благодарно киваю головой. Потом он закрывает ладошкой глаза и спрашивает:
— А тебе темно?
— Так можно споткнуться, — говорю я, уклоняясь от прямого ответа. Мои слова Антона успокаивают, или устраивают. Он вдруг оживляется, вспоминает:
— А я вылез из песочницы и полез на корабль, и был капитаном, а Ира капитанкой.
— Молодец, — говорю я восхищенно.
— Ага-а, — серьезно тянет Антон.
Останавливаемся мы около шлагбаума. И смотрим.
Каждый по-своему: я бесцельно, по сторонам; Антон туда, откуда появляются поезда. Он смотрит пристально, терпеливо. И когда из-за поворота выскакивает локомотив, стискивает мне пальцы и кричит:
— Бу-у-у!
— Ты что кричишь?! — напрягаю я голос и дергаю его за руку.
Антон смеется, щурит от удовольствия глаза и говорит:
— У меня много шума во рту. Я тебе тоже дам сколько-то…
Он прикладывает к губам ладошку, а потом быстро отрывает ее, будто посылает воздушный поцелуй.
Вагоны покачиваются, приседают на стыках рельсов. Антон тоже приседает, он пытается разглядеть то, что так твердо, ритмично стучит под вагонами, и вдруг начинает подскакивать на месте.
— Он колесами бежит! Он колесами бежит! — кричит он, и я тоже неожиданно подпрыгиваю и кричу:
— Колесами! Колесами!..
Мы собираемся к бабушке. Вот уже недели две как мы ведем об этом разговоры — и утром, и вечером, и на улице, и за ужином.
— Уже позавчера мы поедем? — спрашивает Антон, едва открыв глаза, еще не стряхнув с ресниц последний сон.
— Да, — говорю я, — послезавтра. Послезавтра, — повторяю я медленнее, и Антон понимающе вздыхает:
— Да, послезавтра.
Потом мы долго собираем вещи, роемся в игрушках, терпеливо выполняем мамины указания.
— Поменьше игрушек, — говорит мама, увидев, какую гору мы приготовили, — их у бабушки пруд пруди.
— Какой пруд? — спрашивает Антон.
— Обыкновенный, — говорит мама, не вникая особенно в смысл вопроса.
— Как шкаф? — пробует угадать сын.
Мама смотрит на меня. Я пожимаю плечами: мы ведь постановили давать сыну исчерпывающие ответы.
— А как это пруд пруди? — невинно добавляет огня Антон, и чувствуется, что это впервые услышанное им слово интересует его особенно. Я бросаю маме спасательный круг. Я говорю:
— Пруд пруди — это значит много, это значит девать некуда.
— А в ящик с машинами можно, — показывает Антон на большую коробку, где до некоторых пор хранился пылесос.
Я довольно громко, но не очень отчетливо произношу какие-то непонятные слова и ищу глазами маму, но ей именно в эту минуту понадобилось выйти на кухню.
— Не надо эту книжку, там Бармалей, — хлопочет между тем Антон у своей полки и перекладывает с места на место компанию своих верных спутников. Все они ему дороги, многие из них определенно снятся ему во сне, потому что иногда, он среди ночи вдруг просыпается и тревожно спрашивает: «А я его защищу? Пистолетом?» — «Да, да, маленький», — гладит теплой рукой его остренькое плечо мама, и сын успокаивается и засыпает.
— А эту книжку я купил, — подбегает ко мне Антон и показывает маленькую, складывающуюся в гармошку книжицу.
— Ты?!
— На денежки.
— Какие?
— А вот такие…
Я гляжу, как Антон соединяет и разводит в стороны пальцы и внимательно смотрит на них.
— А потом руки помыл, — понимающе показывает он ладошки.
Я пытаюсь проследить ход его мыслей, объяснить «его» логику в этом маленьком быстром диалоге, но он уже убежал и кричит — кажется, из кладовки:
— Папа, а это возьмем — чем воздух делают?
Мне приходится идти в другую комнату. Антон держит в руках велосипедный насос.
— Это насос, — говорю я, как мне кажется, спокойно и внушительно. — Им ка-ча-ют воздух.
— А можно я понасосю? — спрашивает Антон.
Я машу рукой.
Через минуту он подходит снова и поднимает руки:
— Папа, я вспотел ходить. Сними свитер.
Пока я с трудом стягиваю с него связанную Верой толстую модную кофту, он заканчивает свой неизвестно когда начатый рассказ: