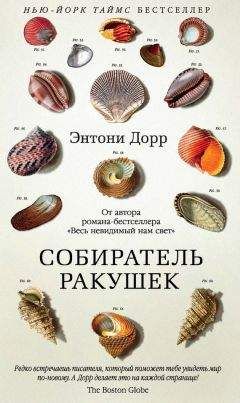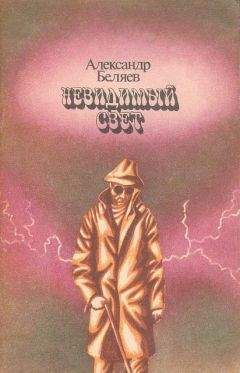Энтони Дорр - Весь невидимый нам свет
Они с Этьеном путешествовали, пока у того были силы. Побывали на Сардинии и в Шотландии, катались на втором этаже лондонских автобусов. Он купил себе два новых транзисторных приемника, умер тихо в ванне, дожив до восьмидесяти двух, и оставил ей много денег.
Несмотря на то что Мари-Лора с Этьеном наняли специалиста, потратили тысячи франков и перерыли тонны документов в немецких архивах, они так и не узнали, что именно случилось с ее отцом. Удалось подтвердить, что в сорок втором году он и впрямь был заключенным лагеря Брайтенау. Сохранилась запись, сделанная лагерным врачом в Касселе, что в начале сорок третьего года некий Даниэль Леблан заболел гриппом. И больше ничего.
Мари-Лора по-прежнему живет в квартире, в которой выросла, по-прежнему ходит в музей. У нее было два любовника: первый – приглашенный лектор, который уехал и не вернулся, второй – канадец по имени Джон, который разбрасывал вещи – галстуки, монеты, носки, мятные леденцы – в любой комнате, куда входил. Они познакомились в аспирантуре. Джон порхал с кафедры на кафедру, демонстрируя редкую любознательность и неумение сосредоточиться на чем-нибудь одном. Он любил океанические течения, архитектуру и Чарльза Диккенса, и его разносторонность заставляла Мари-Лору чувствовать себя ограниченной, чересчур узкой специалисткой. Когда она забеременела, они с Джоном расстались спокойно, без обид.
Элен, их дочери, сейчас девятнадцать. Коротко стриженная, миниатюрная, талантливая виолончелистка. Очень собранная, как почти все дети слепых родителей. Элен живет с матерью, но все трое – Джон, Мари-Лора и Элен – каждую пятницу вместе обедают в кафе.
Наверное, у всех во Франции, кто застал первую половину сороковых, война остается центром, вокруг которого вращается вся остальная жизнь. Мари-Лоре и сейчас становится дурно от запаха вареной репы или от слишком больших туфель. И еще она не может слышать перечисление фамилий. Состав футбольной команды или редколлегии, представления на конференциях – все они кажутся ей обрывками тюремных списков, в которых снова нет ее отца.
Она по-прежнему считает канализационные решетки: тридцать восемь от дома до лаборатории. На ее крохотном ажурном балкончике растут цветы, и летом она определяет время суток по тому, как раскрылись лепестки энотеры. Когда Элен уходит к подружкам и квартира кажется слишком тихой, Мари-Лора отправляется в ресторанчик, всегда в один и тот же, «Виляж Монж», напротив ботанического сада, и заказывает жареную утку в память о докторе Жеффаре.
Счастлива ли она? По большей части, да. Например, когда стоит под деревом и слушает, как дрожат на ветру листья, или открывает посылку от собирателя и чувствует такой знакомый океанский запах выброшенных на берег раковин. Когда вспоминает, как читала Элен Жюль Верна и та засыпала, привалившись к ней сбоку тяжелой и теплой детской головой.
Однако бывают часы, когда Элен опаздывает и Мари-Лора от волнения не находит себе места; тогда она наклоняется над лабораторным столом и внезапно чувствует все другие помещения музея – кладовки с заспиртованными лягушками, угрями и червяками, кабинеты с гербариями и насекомыми на булавках, полные подвалы костей, – и ей кажется, что она работает в мавзолее, что отделы – кладбища с пронумерованным могилами, что все вокруг – ученые, смотрительницы, посетители и сторожа – гуляют по галереям мертвых.
Но такое случается редко. У нее в лаборатории умиротворяюще булькают шесть аквариумов с морской водой. У дальней стены стоят три шкафа с четырьмя сотнями ящичков каждый, перенесенные много лет назад из бывшего кабинета доктора Жеффара. Каждую осень она ведет занятия у студентов. Они приходят, пахнущие солониной, или одеколоном, или бензином от своих мотоциклов, и Мари-Лора любит расспрашивать их про жизнь, гадать про их прошлое, про то, какие страсти и причуды таятся у них в груди.
Однажды июльским вечером, в среду, к ней, тихонько постучавшись, входит лаборант. Аквариумы булькают, фильтры гудят, нагреватели тихонько щелкают, включаясь и выключаясь. Лаборант говорит, что к ней пришла какая-то женщина.
Мари-Лора не снимает пальцев с клавиш брайлевской пишущей машинки.
– Собирательница?
– Вряд ли, доктор Леблан. Она сказала, что ваш адрес ей дали в Бретани, в городском музее.
Первые предвестья головокружения.
– С ней мальчик. Они ждут в конце коридора. Сказать ей, чтобы пришла завтра?
– Как она выглядит?
– Белые волосы. – Он наклоняется ниже. – Плохо одета. Кожа бугристая. Говорит, что пришла к вам с макетом дома.
Где-то у себя за спиной Мари-Лора слышит звяканье десяти тысяч ключей на десяти тысячах крючков.
– Доктор Леблан?
Пол накренился. Еще мгновение, и она с него скатится.
Гостья
– Вы учили французский в детстве, – произносит Мари-Лора, сама не понимая, как сумела заговорить.
– Да. Это мой сын Макс.
– Guten Tag, – говорит Макс. Рука у него маленькая и теплая.
– Он французского в детстве не учил, – замечает Мари-Лора.
Обе смеются, потом умолкают.
Женщина говорит:
– Я кое-что вам привезла.
Даже через газету Мари-Лора чувствует, что это макет дома; как будто гостья уронила ей в ладони расплавленную каплю воспоминаний. Ноги подкашиваются.
– Франсис, – говорит она лаборанту, – не могли бы вы немножко поводить Макса по музею? Например, показать ему жуков?
– Конечно, мадам.
Гостья что-то говорит сыну по-немецки.
– Дверь закрыть? – спрашивает Франсис.
– Да, пожалуйста.
Щелкает «собачка». Аквариумы булькают, женщина напротив шумно втягивает воздух, и резиновые кружки, приклеенные к ножкам ее табурета, скрипят по полу. Мари-Лора находит пальцами углы дома, скаты крыши. Как часто она держала его в руках!
– Это сделал мой отец, – говорит она.
– Вы знаете, как этот домик попал к моему брату?
Все кружится, закладывает вираж по комнате, затем возвращается в сознание Мари-Лоры. Мальчик. Макет. Открывали его? Не открывали? Внезапно она ставит домик на стол, будто обжегшись.
Женщина, Ютта, наверняка пристально на нее смотрит. И произносит, словно извиняясь:
– Он забрал его у вас?
Со временем, думает Мари-Лора, непонятные события либо запутываются еще больше, либо проясняются. Мальчик трижды спас ей жизнь. Первый раз, когда не разоблачил Этьена, хотя должен был. Второй – когда убрал фельдфебеля. И третий, когда вывел ее из города.
– Нет, – отвечает она.
– В то время, – говорит Ютта, явно не в силах подобрать нужных французских слов, – трудно было быть хорошим.
– Я провела с ним день. Даже меньше.
– Сколько вам было тогда лет? – спрашивает Ютта.
– Во время осады – шестнадцать. А вам?
– Пятнадцать. К концу войны.
– Мы все повзрослели раньше, чем стали взрослыми. А он?..
– Он погиб, – отвечает Ютта.
Ну конечно. В историях про войну все бойцы Сопротивления – решительные мускулистые герои, способные собрать автомат из канцелярских скрепок. А все немцы – либо богоподобные блондины, взирающие из открытых танковых люков на разрушенные города, либо похотливые маньяки, пытающие еврейских красавиц. Тому мальчику просто не осталось места в общей картине. Он был почти неощутим, как будто рядом с тобой – перышко. И все же его душа светилась глубочайшей добротой, ведь правда же?
Мы собирали ягоды в Рурской области. Мы с сестрой.
– У него были руки меньше, чем у меня, – говорит Мари-Лора.
Женщина прочищает горло.
– Он всегда был слишком маленький для своих лет. Но обо мне заботился. Ему трудно было не делать того, чего от него ждали. Я понятно говорю?
– Да, да.
Аквариумы булькают. Улитки едят. Сколько, наверное, мучений пережила эта женщина… А домик? Получается, что Вернер зашел за ним обратно в грот? Остался ли камень внутри?
– Он сказал, – говорит Мари-Лора, – что вы с ним слушали передачи моего дядюшки. Что вы ловили их в Германии.
– Вашего дядюшки?..
Мари-Лора гадает, какие воспоминания крутятся в голове у женщины, сидящей напротив нее. Она собирается ответить, но тут в коридоре слышатся шаги. Макс пытается что-то сказать по-французски. «Нет-нет, – смеется Франсис, – не „в заде“, а „сзади“».
– Извините, – говорит Ютта.
– Детская рассеянность-то нас и спасает, – со смехом отвечает Мари-Лора.
Открывается дверь и Франсис спрашивает:
– Все в порядке, мадам?
– Да, Франсис. Можете идти.
– Нам тоже пора, – говорит Ютта и задвигает свой табурет под стол. – Я хотела бы оставить вам домик. Лучше он будет у вас, чем у меня.