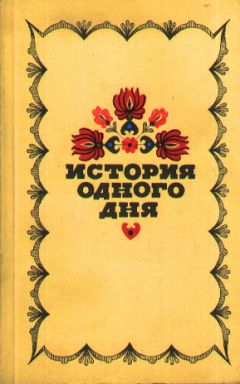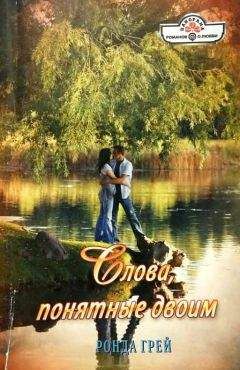Иштван Фекете - История одного дня. Повести и рассказы венгерских писателей
— Дюри, сегодня мы покажем спектакль. Принеси мой сундучок с ушками.
Как я уже говорил, обычно отец играл только тремя куклами, лишь головные уборы у кукол менялись в зависимости от роли, которую они исполняли: если на голову надевался кивер, значит — солдат, если папаха из заячьего меха — торговец, и т. д. Эти-то головные уборы отец и хранил в сундучке. Он долго рылся в нем и наконец извлек оттуда морскую фуражку, каску, а вот третьей никак не находил. Тогда он взял ножницы и иголку и смастерил из старого мехового воротника шапку, подобную той, в каких были изображены советские солдаты в ту пору на газетных полосах.
В тот вечер наше представление рассказывало о том, что Касперле в меховой ушанке убивает моряка Фауста (который к тому же своим бледным лицом и длинным носом напоминал Хорти) и Черта в стальной каске, говорившего на швабском диалекте.
Вы не вчера явились на свет, и мне нет надобности объяснять, как это было смело летом 1943 года, когда любого без «особых протекций» могли зачислить в отправляемые на фронт штрафные роты. И все же сейчас, уже став взрослым, я понимаю отца. Ему, наверное, было нестерпимо больно сознавать, что его, который так презирал фашистов, люди теперь тоже причисляют к ним из-за сына, поступившего в эсэсовскую часть. Он хотел восстановить свой авторитет, без которого великий артист Земан не мыслил своей жизни.
Хотя балаганщики любят говорить о том, что их представления смотрят одни дураки, многие зрители поняли, что хотел отец сказать дракой своих кукол. Однажды вечером после представления в нашу будочку вошли двое: это были рабочие, сбежавшие из концлагеря и бродившие по столице, голодные и неприютные. Они увидели наше представление — кукольный театр, поняли чувства отца и вот пришли просить помощи. Отец знал, что в парке полно сыщиков, поэтому не оставил рабочих у нас, а отвел их в поселок. Он был уверен, что там их спрячут.
С тех пор отца часто навещали незнакомые люди, давали ему поручения и письма, и отец после представлений отправлялся на велосипеде в Кёбаня. Вероятно, по совету незнакомцев он уже больше не исполнял номер, в котором Касперле в ушанке убивал Гитлера и Хорти, и все же попался.
В первое сентябрьское воскресенье 1943 года три шпика вошли за ширму, где отец работал с куклами, и прижали к его боку свои пистолеты. Отец взглядом велел мне удалиться, но сыщики не выпустили меня. Они хотели заставить отца выдать связного, но он этого не смог бы сделать даже при желании. К нему каждый раз являлся новый человек, который вначале вместе с публикой смотрел программу, и отец узнавал его лишь тогда, когда после представления тот являлся к нему и называл пароль. Шпикам ничего не оставалось, как смотреть на исполнение отцом своей программы: дело в том, что спектакль смотрело несколько сот человек, сидевших на скамейках и облокачивавшихся на ограду, и найти среди них нужное лицо было невозможно.
К концу номера я с удивлением заметил, что отец достает из сундучка полицейскую фуражку и надевает ее на голову Черту. Такого номера в программе не было. Сперва отец поднял петрушку. Тот пел, плясал, затем над ширмой появился Черт в полицейской фуражке, и тут отец голосом петрушки как завопит: «Спасайся! Спасайся!» Шпики бросились на отца, стали его избивать, но вся публика, в том числе и тот, к кому было обращено предостережение, мгновенно рассеялась.
Отца забрали, больше я его не видел. Один человек, который был вместе с ним, рассказывал потом, что отца повесили в Кёхиде. А однажды ночью за мной пришли с Керамического поселка и увели к себе. И порой я разыгрывал для них такое представление: Черт пытался повесить петрушку, но тому удавалось обмануть Черта, а затем избить его большой дубинкой.
Перевод Е. Израильской
Жужа Тури
Самый лучший подарок
Наступило рождество 1944 года. Мишкина мать увязала в чайное полотенце подковки с маком, а Мишка взял узелок и направился к двери.
— Изломаешь! — вдогонку мальчику крикнула мать. — Не размахивай, покрепче держи, это тебе не капуста!
Мальчик широко улыбнулся. Ему нравились быстрая речь и решительность матери. Сегодня утром она объявила: будь что будет, а она непременно испечет праздничный пирог. И действительно, хоть и не хватало то того, то другого, она на все махнула рукой и напекла пирогов. И, конечно же, вспомнила про дедушку, который жил неподалеку, на горе Нэп, но из-за непрерывных бомбежек не отваживался покинуть Буду и навестить дочь, жившую на пештской стороне. Вспомнила, мигом уложила в платок гостинцы и отправила с ними Мишку, приказав, чтоб к вечеру вернулся домой — ведь от улицы Надор до горы Нэп рукой подать.
— Помни, что я боюсь оставаться одна. Так что беги бегом! — добавила она, когда мальчик выходил за дверь.
Но это, без сомнения, была мамина уловка, для того чтоб заставить Мишку спешить. Мама и слыхом не слыхивала, что бывает на свете страх. Относительно этого Мишка мог привести целую кучу примеров. Но доказывать это сейчас время не позволяло, к тому же было у него кое-что на уме. Мишка шагнул уже за дверь, но вдруг передумал и вернулся.
— Нам бы надо завести собаку, — сказал он.
— Это еще зачем?
— Раз ты боишься одна…
— Я? — с чувством собственного достоинства возразила мать и, готовая к отпору, выпрямилась во весь рост.
Высокая, статная, с твердо очерченными, но приятными чертами, Михайне Рац отнюдь не выглядела пугливой овечкой. Однако сыну пора идти, уже второй час, а около четырех начинает смеркаться. Она легонько его подтолкнула, но сама, прежде чем вернуться в квартиру, пытливым взглядом окинула серое небо, низко нависшее над городом. Необычная выдалась погода на рождество — без снега. Зато в небе была тишина, не кружили над городом самолеты и не грозила сынишке опасность на его коротком пути.
Соседка, белошвейка, заметив Мишкину мать, немедленно распахнула окно.
— Куда это отправился ваш мальчуган? — спросила она.
— К дедушке, в Буду.
— В Буду? — закудахтала швея. — Да вы что, мадам Рац, с луны свалились? Ведь Буда в осаде, русские продвинулись уже до самого Хювёшвёлдя.
На какую-то долю секунды бесстрашное сердце Михайне Рац замерло.
Но она тут же, словно успокаивая самое себя, с запальчивостью сказала:
— Да он на гору Нап пошел. Дотемна еще дома будет.
И с этими словами вошла в квартиру.
* * *
Мишка действительно шел на гору Нап. Там в одноэтажном доме, в стороне от богатых вилл, у дедушки была совсем крохотная сапожная мастерская. Это была очень старая мастерская, и, когда Мишка переступил порог, над дверью зазвенел колокольчик. На его мелодичную, уютную трель четыре старческих головы очень медленно повернулись к Мишке, но разговор, сопровождаемый частыми кивками, кряхтеньем и пыхтеньем трубок, не прерывался. Дедушка сидел на низком стульчике и прибивал деревянными гвоздями заплату к подошве истоптанного солдатского башмака, а три других старика сидели на скамье, тесно прижавшись друг к дружке. Четыре пары старческих глаз одновременно обратились к Мишке, и морщинистые лица осветились ласковой улыбкой.
— О-о, Мишка! Поглядите, ведь это Мишка! — закивали, заговорили старики, и даже дедушка вынул изо рта деревянный гвоздь.
— Желаю приятных праздников! — сказал им всем вместе Мишка.
С румяным от мороза лицом, круглыми карими глазами, похожими на блестящие пуговки, в коротенькой теплой бекешке и надвинутой на уши шапке он выглядел очень забавным.
Мишка положил перед дедом подковки. Положил с таким видом, словно был страшно рад, что наконец-то от них избавился. А дедушка на стариков не смотрел: гордость, засветившаяся в его глазах, могла причинить им боль.
Настроение в мастерской еще больше приподнялось, хотя и без того оно было праздничное. На полу лежали два тюфяка, на тюфяках пальто и старые одеяла; на железной печурке, раскалившейся докрасна, булькала какая-то еда, распространявшая острый запах лука; от дыма курительных трубок в воздухе висела серо-голубая мгла, и старики на скамье выглядели совсем по-домашнему. Круглые глаза Мишки тотчас подметили эту перемену.
— Вы все здесь живете? — спросил он.
Дедушка снял фартук, повесил его на гвоздь и принялся хлопотать вокруг плиты.
— Я их вытащил из богадельни на праздники, — сказал он с серьезным достоинством.
Мишка наклонился над кастрюлей и втянул носом воздух.
— Картошка с паприкой?
— Да-да. Жареную индейку мы отложили на будущий год.
Дребезжащий старческий смех, необычное оживление и притопывание сопроводили дедушкину остроту. И не было в том ничего удивительного, ибо на рождество 1944 года картофель с паприкой сам по себе был яством невиданным, а уж если в придачу оказался пирог с начинкой из мака, то вполне понятно волнение, заставившее медлительную кровь стариков заструиться чуть живее.