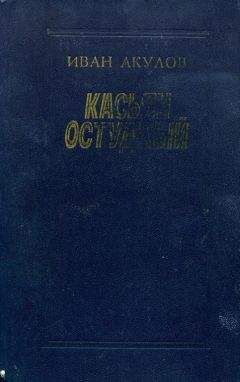Иван Акулов - Крещение
— Куда ты? Куда ты? Тут командный состав. Выходь, выходь!
Он, прихрамывая на левую ногу, подошел к Охватову и цепкой рукой взял его за рукав.
Охватов повел плечом и решительно отстранил бойца:
— Ты руками того… Мне надо старшего лейтенанта Филипенко.
— Все равно, все равно, — опять приступил усатый.—
Давай на крыльцо. Здесь не положено. Не положено, и все.
— Смирно! Ты что, ослеп, с кем говоришь? Без знаков различия для тебя все на одну колодку?
— Да я и вижу, — смутился боец и, сомкнув пятки, покривился на левое плечо. — Я вижу, что не рядовой, да шинель на вас…
— Живо доложи старшему лейтенанту Филипенко, что к нему с письмом. А я здесь посмотрю за тебя.
— Филипенко — это здоровяк такой?
— Он.
— Так он там, по отдельному ходу. Вот как выйдете, так и налево. С крыльца — и налево.
— Бывай.
— Товарищ… как вас, у вас за ухом сажа али грязь, может. Дозвольте…
— Вольно, вольно, сам рядовой, — улыбнулся Охватов и, плюнув на рукавицу, с незнакомой для себя убежденностью добавил: — За генерала Охватова не скажу, а полковника Охватова еще услышишь. Спасибо, батя.
Заулыбался и усатый, выходя следом за Охватовым. Уже с крыльца спросил:
— Значит, полковник Охватов?
— Именно так, батя.
— Давай, давай, полковники, они тоже из рядовых.
В небольшой квартирке, где когда-то, вероятно, жил директор школы, Охватова встретил сам Филипенко. Без сапог, в нательной рубахе и с короткой палкой в руках, он совсем не был тем дородным детиной, каким казался Охватову в форме. Усы у него были подстрижены, прибраны, сам он был свеж, румян и навеселе.
— Николушка, друг ты наш, да мы тебя только что вспоминали! Дмитрий Агафоныч! — закричал Филипенко в соседнюю комнату. — Дмитрий Агафоныч, вот он, Охватов-то! Легок на помине. А ну раздевайся. Давай, давай, какие еще глаза? Потом. За письмо спасибо. — Стянув с Охватова шинель и не дав ему причесаться, Филипенко втолкнул его в комнату, подбадривая: — Давай, давай, тут все свои. Шире шаг.
В комнатке с оббитой штукатуркой и наполовину заколоченным единственным окном стояли две железные кровати, одна, на которой сидел майор Афанасьев, была двуспальной, с изогнутыми поперечными связями. Между кроватями стоял стол, а под ним заходящее солнце, как-то пробившись через наледь на стеклах, высветило две бутылки.
Афанасьев был перевязан по ушам. Правое ухо было все скрыто под несвежим бинтом, а левое стояло торчком, и от этого маленькое лицо майора казалось еще меньше.
— Садись, Охватов. — Майор кивнул на кровать рядом с собой и вроде даже сделал неопределенное движение, уступая место. — Садись! И вообще не хорохорься. Давай все с одного слова.
Охватову казалось, что он достаточно хорошо знает своего комбата, но вот, оказавшись с ним совсем рядом, увидев его дряблое, морщинистое лицо, а главное, его черные, точно видящие глаза, Охватов будто впервые встретился с этим человеком.
— Чего уставил на меня буркалы? Или не узнал своего комбата?
— Узнал, товарищ майор. Так точно.
— А расскажи-ка ты нам, братец, как вы с Урусовым немецкого генерала уложили?
— Какого генерала, товарищ майор? — Охватов вскочил, расправляя под ремнем складки гимнастерки.
— Да сиди ты, ради Христа. Откуда-то, понимаете ли, скромность у них берется. Чего умолк? Или не о вас это пишут?
Майор Афанасьев достал из-под подушки фронтовую газетку, подал ее Охватову и стал глядеть, как тот беспокойно забегал глазами по мятым страницам, потом вдруг замер и начал краснеть с ушей и висков. Старший лейтенант Филипенко, привалившись поясницей к головке своей кровати, стоя читал письма, хмурился.
— Вот так-то, — вздохнул майор, закурил и, постукивая по ребру порожней консервной банки своим мундштуком, сбил с цигарки первый пепел. Когда Охватов дочитал статью и начал свертывать газетку, спросил: — Ну ты это, Охватов, или не ты?
— И я, товарищ майор, и не я.
— Как понимать прикажешь?
Охватов начал рассказывать о той ночи, когда они с Урусовым обстреляли последними патронами уходивших из окружения немцев и убили коней, везших труи генерала.
— Слушай, Филипенко, — поправляя у левого уха бинт, повеселел майор Афапасьев, — ты послушай, что он рассказывает. Это же черт знает что такое, залобанили немецкого генерала, и будто дело не ихнее. Ах, черти не нашего бога. Нет, ты скажи, где еще может быть такое? И все-таки правильно. Правильно от начала до конца. Главное для солдата — править службу, а доброе дело его, как самородок, все равно обнаружится. Не то важно, кто кокнул генерала, а то важно, что его кокнули. Немецкий генерал, Охватов, очень не любит, чтоб его убивали. Непривычен он к этому. Генерал у них создан для победы, рассчитан по крайней мере на полста лет войны… Зато наш генерал, я вам скажу, ни чертей, ни смертей не признает. Правей Верховья вышли мы на какой-то починок, бьет немец — ну нема спасу, как говорят здесь. Залегли по ямкам да канавкам. Лежим — ухо к земле, сердце в пятках. И вдруг мотор с тыла. Неуж танки обошли? Вот она где, смертушка-то наша. Поглядели, а это сам командующий фронтом со свитой на двух «эмках». Вылезли из машин и к нам. Сам здоровила — ничуть не меньше Филипенки, с пузом, и сзади шинелка в обтяжку. Ошибся, думаем, и ну махать ему: назад давай! Назад! А немец лупит и лупит из пулеметов, минометов, орудий — вот уже прямо в упор. Пропал, решили мы, наш командующий из-за своей собственной глупости. А он хоть бы хны — идет, только шинель расстегнул, золотые пуговицы на гимнастерке поблескивают. И причиндалы его за ним. Гнутся, но идут. А как ты хотел — идут. И подумал я тогда, Охватов, ведь если такой большой человек себя не жалеет, не пожалеет он и подчиненного. Немец нет, тот, брат, бережливо воюет. Ему после России еще с Англией воевать, а потом миром править. И вообще, арийская кровь дорога. Нет, вы скажите мне, молодежь, почему это мы перестали гордиться и дорожить своей кровью? Нашей святой русской кровью? А ведь если брать и историческом плане, мы же на голову выше немцев. Еще старик Суворов говаривал, что русские прусских всегда бивали.
Афанасьев зажал между пальцами свой тяжелый мундштук, хлопнул по нему ладошкой — дымящийся окурок вылетел из него и ударился о железный лист у печки. Охватов поднялся и забросил окурок в недавно истопленную печку; из раскрытой дверцы дохнуло на него жарким томленым углем и осадило на месте: сперва лицо, потом шею, затем плечи, грудь — окатило все сухим ласковым теплом, и отнялись у бойца руки, ноги, жестоко истосковавшиеся но теплу. Когда Охватов вернулся на свое место, плотное лицо у него пылало как зарево, отмякшие глаза были сонливы и тихи, голову заволокло всю не пьяным, но вязким хмелем. А майор Афанасьев говорил свое все о русском духе, нервно играя мундштуком.
— А вы, братья славяне, знаете, что сказал Федор Иванович Тютчев о России? Откуда вам знать! Ты, поди, Охватов, и поэта-то такого не слыхал, а?
— Не припомню, товарищ майор, — встрепенулся Охватов.
— Жаль, Охватов, хотя вины твоей, может, в этом и нету. Школьники, пожалуй, больше о Древнем Египте и Гренаде знают, чем о Куликовом поле, скажем, или о том же Тютчеве. А как старики, Охватов, любили Россию, писали о ней такие слова, что кровь закипает в жилах! Нет, вы послушайте, что писал Василий Андреевич Жуковский:
Отчизне кубок сей, друзья! Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет, Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки.
Что вашу прелесть заменит?
О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
Голос у Афанасьева дрогнул, в нем зазвенела близкая слеза, последние слова он произнес едва слышно и умолк, глубоко разволновавшись.
— Зачем вы это говорите ему, Дмитрий Агафоныч? — Филипенко бережно свернул письма и, положив их в нагрудный карман гимнастерки, висевшей на косяке окна, сел на свою кровать.
— Я, Филипенко, всю свою жизнь учил детей, учил жизни, правде, учил думать, и делаю это сейчас, и буду делать впредь. Налей ты ему чаю. Парень с морозу.
Охватов выпил некрепкого чаю, пожевал свежего, домашней выпечки хлеба, после которого ободранные сухарями десны приятно заныли. От чаю и духовитого хлеба Охватову стало так хорошо, что он с откровенной преданностью стал глядеть на Афанасьева, опять не узнавая его и дивясь этому. У Афанасьева совсем голые, припухшие с усталости веки, такие же усталые глаза, будто подернутые пеплом, под которыми, невидимая, угадывается деятельная и напряженная мысль.
Филипенко прямо на нательную рубаху надел внакидку свою шинель и лег на кровать, закинув руки за голову.