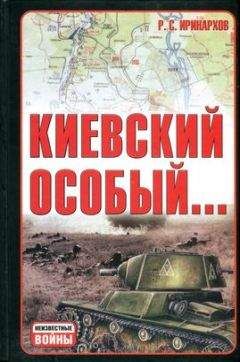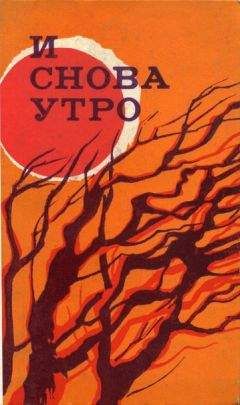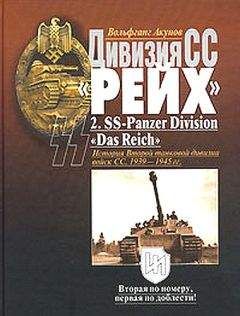Анатолий Кудравец - Сочинение на вольную тему
«Что же произошло, что изменилось?» Он не мальчик, ему не пятнадцать и даже не двадцать. Он ведь знал и других женщин, но т а к о г о с ним никогда не было. Чтоб человек сразу стал таким с в о и м. Почему этого не случалось раньше? Почему ни одна из тех женщин, кого он знал раньше, не стала такой близкой, такой понятной, такой своей? Почему тогда, каждый раз после этих торопливых минут близости, когда на какой-то миг исчезают всякие границы реальности, наступало трезвое прозрение и оставался неприятный осадок? Как после папиросы. И неудовлетворенность собой. И стыдно было смотреть друг другу в глаза… Может, потому, что где-то на дне души жила уверенность, что это не то, что это временное, чужое, чужое… Может, потому, что он долгие годы ожидал ее, Веру? Может, потому, что он любит ее, и любит давно, так давно, как знает себя…
Он ждал, что оно придет. Ждал много лет, каждый день… Вначале это было просто ожидание, подсознательное ожидание чего-то хорошего. Так, видимо, птица ожидает прихода весны. После двадцати это уже была тоска… Он с тоскливой болью провожал каждую пару влюбленных, счастливых людей, которых встречал на улице, в кино, в ресторанах… Он не хотел верить, что судьба обошла его, что счастье его прошло где-то рядом. Он уже утратил надежду, он начал приучать себя к мысли, что э т о не каждому дается. Как талант, как красота, как сила… И приучил, но тоску из сердца не выгнал. Он уже ничего не ждал… И тогда оно пришло… Но вместе с радостью и успокоенностью, пришедшими к Ивану теперь, было и острое сожаление. Это было сожаление о том, что было и чего уже никогда не будет, — о той далекой Вере и о нем самом — том, давнем. Теперь они были совсем другие люди.
Вера говорила тихо, чуть глуховатым голосом. Иван слушал не все, о чем она говорила, но знал, о чем она говорила. Она говорила о себе, а ему казалось, что это о нем…
— Ты не знаешь, не представляешь, что было со мной, когда ты ушел в армию. Иногда мне казалось, что я не выдержу больше, нет, что я умру, так болело мое сердце. Выбежав из нашей хаты, ты пошел на улицу не через калитку, а напрямик, через гряды. Не знаю, почему ты так сделал, но мне казалось, что ты специально пошел через гряды, чтобы я тебя дольше видела. Выйду во двор, увижу твои следы — и в слезы. Кажется, сердце вот-вот разорвется. Прошу Клавдию: «Закопай ты эти следы, или запаши, или засыпь, а то я не выдержу, помру…» А она смеется: «Дуреха, говорит, вот снег пойдет и сам засыплет все, заровняет, и не узнаешь, было ли что где. Он в армии, у него есть о чем думать. Он даже не знает, что ты так надрываешься по нем, так сохнешь…» Смеялась, смеялась, потом сердиться начала, ругать меня: это же надо, школьница, восьмиклассница, вместо того чтоб про учебу думать, места не находит из-за хлопца. А я ничего не могу с собой поделать.
Но вот пришла зима, повалил снег, засыпал все-все и следы твои. И у меня как-то спокойнее стало на сердце. Вначале ждала, думала, что хоть слово напишешь, ну, просто так, как знакомый, разве ж так нельзя… Не-а… Бывало, иду из школы — все девчата и парни впереди побегут, а я плетусь нога за ногу… И думаю, думаю… «Ну, не может быть, чтоб он ничего не знал, ничего не чувствовал. Я столько о нем думаю, так мое сердце мучается. Даже дерево почувствовало б это, а он ведь человек, живой человек». Тебе смешно, правда? Скажи, смешно?
— Нет, не смешно, — ответил Иван. — Говори, я слушаю.
— Стану у березки, обниму ее… А то представляю, как мы встретимся с тобой, как ты поцелуешь меня. И переживаю, аж ноги дрожат. Никакие уроки в голову не лезут. А увижу твою мать — сердце в пятки уходит. Хочу спросить, присылал ли ты письма, и боюсь: еще подумает что. Хотела спросить Адама, он тогда почту носил, чтоб хоть глянуть дал на твое письмо, чтоб хоть почерк твой увидеть. Встречу его и спрашиваю, нет ли нам писем. «Нет, нету». — «А кому есть?» — «Кому есть, тому есть…» Набралась смелости, забежала к вам. Два раза… Зимой выдумала погреться, летом — воды попить. Тогда, кажется, впервые и увидела тебя в военной форме. Ты с каким-то своим товарищем, носатым таким… Веселые, здоровые. И какой-то незнакомый ты был на той фотокарточке, далекий. Потом пришла весна, согнала снег — и снова все началось сначала… Закрою глаза и вижу, как ты перебегаешь двор, берешься одной рукой за плетень, прыгаешь. Хлопаешь рукой по штанине — то ли пыль отряхиваешь, то ли колючки… На дворе стало тепло, трава пошла… И с сердцем снова что-то начало твориться, что-то бушует там, чего-то хочется, а чего — и сама не знаю. Просто места себе не находила. Особенно под вечер. Кажется, шла б и шла неизвестно куда. Кажется, только б увидеть тебя, один только разочек увидеть…
С горем пополам окончила восемь классов, а что дальше? Ходить в девятый? А тут и Митя перешел к нам. Они с Клавдией давно были как муж и жена. Сидит, сидит поздно, да и останется ночевать. Клавдия и тогда уже стелила для двоих. Ночь пробудет, а на рассвете бежит домой… А теперь совсем перебрался к нам. Ты же знаешь, как он водку любил. Каждый вечер под градусом. А под градусом-то или драться, или ссориться. Клавдия тоже цаца добрая. Терпела все, пока неженатые были, пока к нам не перешел. А как перешел — она ни на какую уступку. Он слово — она два. Прошу: «Замолчи. Уступи ему». Где там! Как схватятся драться — насмерть… Раза два полуживую вырывала у него из рук. Два дня поохает, постонет, а там все заново… А тут как раз подвернулись курсы бухгалтерские. Я и поехала… Клавдия родила первого сына, и Четыресорок остепенился: пить стал меньше, драться перестал.
Окончила курсы и махнула на Север… Есть такой город Североморск… Одна-то я никогда не решилась бы ехать за свет, а это подбила напарница, на тех курсах училась, Маня Жадейка, у нее как раз сестра жила в том городе. Я, как за веточку, раз-раз и поехала. Работу нашли быстро. Я в вэчэ, она — на комбинате… Сижу, кручу арифмометр, свожу сводки. Копейку потеряешь, два дня ищешь… Теперь вспомню, так сама диву даюсь: откуда у меня смелости хватило поехать на край земли. Никого: ни родных, ни знакомых, одна только Маня. Она, как поводок, и удерживала меня там. Без нее я не выдержала б там… И пусто, и голо, и холод. Куда ни глянь — сопки. А Мане хоть бы что. Прибежит, смеется… «Не горюй, Вера, не замерзнешь. Хлопцы не дадут замерзнуть». А морозы там страшные. Градусов сорок — сорок пять. Выбежишь во двор, раза два дохнешь — и назад. Словно иголками прошивает. И темно. Глухой темени, такой, как у нас, нет, а так — серо вокруг и днем и ночью. Ни день ни ночь. А вверху, над фонарями, белые столбы мигают, переливаются… Прибежишь со двора, а тут печка горит. Дверцу откроешь — ближе к теплу. Возьму стул, сяду напротив печки, и кажется уже: никакой это не Североморск, а наш Буднев, и я дома… И вот скоро ты придешь, задачки решать… — Вера замолчала и долго лежала, глядя в потолок. Иван повернулся к ней.
— Дальше не надо…
— Нет… Я хочу, чтобы ты услышал это от меня. Только… — она запнулась. — Если тебе неинтересно, скажи…
Он погладил ее по волосам, дотронулся губами до щеки, щека была горячая.
— Маленькой я очень боялась темноты, — начала Вера, непривычно растягивая слова. — Даже выйти во двор ночью мне было страшно. Я бегом пролетала через сени, хваталась за щеколду, стараясь как можно быстрее открыть дверь. Мне казалось, что в темноте кто-то есть, кто-то неизвестный и страшный, и он схватит меня. И теперь… мне хочется как можно быстрее пробежать через эти темные сени… Так вот. У Джека Лондона есть один страшный рассказ о севере, о белом севере, о том страхе, который наваливается на человека, когда он остается один на один с севером. Прочла я этот рассказ там. Вечерами делать было нечего, так перечитала всю библиотеку. Прочла я этот рассказ и забыла. Но вот однажды пошли мы на лыжах на сопки. День такой ясный, где-то уже к весне. Маня, офицеры из нашей части, я… Поднялись на первую сопку, солнце увидели. Как желток висит на небе. Спустились за сопку — его не стало. Идем и идем. Смех, шутки… Кто-то кого-то зацепил, кто-то кого-то подцепил. Я в хвосте шла. Они впереди, а я за ними плетусь. Какой там из меня лыжник… Иду себе, думаю… Сосенки вокруг — небольшенькие, кривые, как у нас на болоте. Кое-где береза, опять же кривая, коростливая. Спустилась вниз, а наши где-то впереди, за сопкой. Остановилась я поправить лыжу. Оглянулась вокруг — одна на всем свете. Хоть бы душа, хоть бы что живое… Ну, ворона, или заяц, или самолет. И такая тишина, такая тишина… Крикнула — голос никуда не полетел, кажется, так на губах и остался. Белый снег кругом, белое, словно вата, небо над головой, ну как раз как в том рассказе. Там еще человек погибает. Его деревом придавило. И как поселился во мне страх! Кажется, никогда я никуда не выйду, голоса человеческого не услышу… Бросилась вперед по следам. И не иду уже, а бегу, спотыкаюсь, и бегу, и плачу. Вижу, кто-то спускается навстречу. Ну, слава богу. Это был он, Толя. Увидел слезы, пожал плечами: «Что такое?» Говорю: «Ногу подвернула». Разве скажешь кому, что испугалась?.. Так с ним вдвоем мы и вернулись в город. Потом еще ходили на лыжах, на танцы в офицерский клуб… Очень трудно человеку одному. Еще пока не замечаешь, что ты один, — ничего. Кажется, живешь — и все тебе. А когда почувствовал, что один, — тогда тяжело. Поссорилась я с хозяйкой, у которой жила. Попросила Толю: помоги квартиру найти. «Хорошо», — говорит… И вечером приходит с друзьями. «Собирай манатки — и пошли…» А много там чего собирать! Связали постель в узел, чемодан и пошли. Приводит он к себе в комнату… Там уже стол готов: водка, шампанское… Я в слезы, а он смеется: «Чего ты? Все равно этим кончится, не сегодня, так завтра». Я подумала, что, и правда, так оно будет…