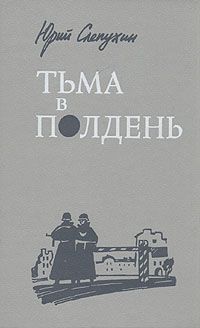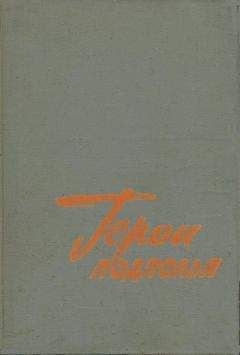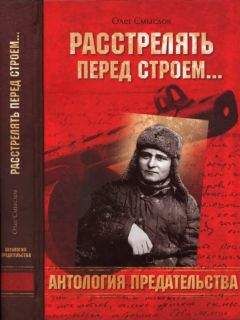Юрий Слепухин - Тьма в полдень
– Здесь два шага, – повторил москвич. – Топай вон туда под мост, там такой переулок – Орликов. Пойдешь вверх по Орликову, выйдешь на Садовое кольцо – увидишь, широкая такая улица, садов там никаких уже не осталось, одно название. Пересечешь Садовое, возьмешь чуть влево и выйдешь на Кировскую. Где станция метро «Красные ворота ». Слышь, а это что – за ранение? – москвич уважительно посмотрел на Сергееву золотую нашивку. – Я только читал, что теперь будут давать... Ты что, из госпиталя возвращаешься? Где ж это тебя зацепило?
– В мае, на Юго-Западном, – нехотя ответил Сергей. – Знаешь такой городок – Харьков?
Москвич выразительно присвистнул.
– Это тебе повезло, – сказал он и спросил, героически преодолевая боязнь показаться необстрелянным новичком. – Ну а как там вообще?
– Тогда было хреново, – сказал Сергей, – а как сейчас – не знаю. Думаю, не лучше. Ну ладно, счастливо!
– Привет. Понял, как идти?
Сергей кивнул и пошел к мосту, неся шинель на руке и размахивая купленным в Ярославле маленьким дешевым чемоданчиком.
Он легко нашел Орликов переулок, миновал здание Наркомзема, нижний этаж которого был обшит тесом и обложен мешками с песком, и вышел на Садовое кольцо, пустынный проспект немыслимой ширины. Проспект был почти безлюден, он сбегал под уклон и снова поднимался, теряясь в легком тумане, словно широкая степная дорога. Там, вдали, крошечные человечки медленно вели по его середине большую, толстую, выпукло и серебристо лоснящуюся под неярким осенним солнцем тушу аэростата. Длинная молчаливая очередь стояла у заделанных фанерой витрин.
Оглянувшись налево, Сергей увидел на той стороне полукруглую арку с буквой «М », – очевидно, это и была та станция, о которой говорил москвич.
Через полчаса он добрался до нужного ему дома на улице Кирова, недалеко от почтамта, поднялся на третий этаж и позвонил у обитой клеенкой двери. Ожидая, пока откроют, он поставил на пол чемоданчик и отер лоб, – непривычная прогулка утомила его, как не утомляли раньше двадцатикилометровые переходы. Что и говорить, как бы хорошо машину ни отремонтировали, она все равно уже не та. Но этот парнишка прав, ему действительно повезло, – не многим тогда удалось ускользнуть из окружения, даже здоровым.
Пожилая женщина открыла дверь и сразу, ничего не спрашивая, пригласила его входить. Очевидно, она и говорила с ним по телефону.
– Придется вам подождать, – сказала она, провожая его по темному коридору, – Александр Семенович когда вернется – неизвестно, но велел, чтобы обязательно дождались. Если можете, конечно. Вы из госпиталя прямо, он говорил?
Сергей сделал вид, что не расслышал вопроса. Почему-то все считают нужным об этом спрашивать. Неужели так трудно догадаться, что человеку, который пролежал почти четыре месяца, нет никакой охоты об этом вспоминать!
– Я подожду, спасибо, – сказал он и попросил ее не беспокоиться, когда она заговорила о чае. Женщина привела его в большую светлую комнату, хорошо обставленную, но запущенную и явно нежилую сейчас, – видно было, что хозяева в отсутствии, и, пожалуй, не первый месяц. Свернутая постель лежала на стуле возле большого старомодного дивана, и тут же стоял чемодан – потертый, коричневый, чем-то знакомый Сергею. Может быть, он просто видел его когда-то у Николаевых. У них в передней стояли какие-то чемоданы, вероятно и этот был там. Он подошел к чемодану и провёл пальцами по исцарапанной фибре. Странное чувство охватило его – словно какую-то весточку от любимой получил он сейчас, трогая вещь, к которой прикасались ее руки.
Знакомые уже, шаркающие шаги женщины послышались в коридоре, и он смущенно, словно застигнутый за чем-то недозволенным мальчишка, отошел от генеральского чемодана.
– Идемте, я вам покажу, где помыться, – сказала она. – Помойтесь с дороги, а я тем временем чай поставлю. Особенно угостить вас нечем, а чайку попьем – одной-то мне скушно...
Сергей помылся, потом они сидели и пили чай с какими-то леденчиками. Он все время прислушивался, не щелкнет ли замок на входной двери.
– Что вы все слушаете, – сказала женщина, – услышите, как придет. Тут к соседям приезжал один, так тот все прислушивался – казалось ему, что самолеты летят. Он где-то под бомбежку попал, а тревогу объявить забыли, вот и стал с той поры прислушиваться.
– Понятно, – кивнул Сергей. – Что такое внезапная бомбежка – это мы знаем. Тут не то, что прислушиваться, заикаться начнешь. А часто вас навещают?
– Бог милует покамест. Тревоги-то чуть не каждую ночь, да ведь их не допускают сюда. Ну, бывает, конечно, прорвется какой шальной. Сбивают их много, в Подмосковье. Прошлый год привозили тут летом несколько штук битых, показывали – ну, страх такой. Лучше бы и не видеть.
Потом она ушла, собрав чайную посуду и оставив Сергею свежий номер «Огонька» и газеты. «Вы ложитесь, не стесняйтесь, – сказала она, – отдохните покамест, чего же так сидеть...»
Сергей не заставил себя упрашивать. Он полежал с закрытыми глазами, потом поправил под головой прохладный диванный валик и взял журнал. На обложке стояло: «66-я неделя священной Отечественной войны». Шестьдесят шесть недель!
В сущности, не так ведь и много – по времени. А по событиям...
Он смотрел на обложку, на улыбающиеся лица двух летчиков, участников бомбежек Берлина и Кенигсберга, снятых у трапа своего тяжелого бомбардировщика, и думал о том, что война, пожалуй, поступила с ним особенно жестоко и несправедливо, потому что отняла у него такое счастье, которого не было еще ни у кого; и, думая об этом, он понимал, что точно так же, наверное, думает о войне почти каждый, за исключением тех немногих, кто помнит в мирной жизни одни только тяготы да неприятности и считает поэтому, что на войне, в общем, живется куда проще.
Он думал о том, что можно сколько угодно ждать и верить, но что все равно прошлое не возвращается и то, что было, уже никогда не повторится. И даже если они с Таней дождутся друг друга, и встретятся, и все будет хорошо, то все равно им уже никогда не испытать вместе того, что у них тогда было. Потому что все на свете меняется, и все подвержено переменам, и невозможно не измениться, не стать в чем-то совсем другими, если переживешь то, что они переживают уже шестьдесят шесть недель. Если тебе, мальчишке-лейтенанту, дано право послать на верную смерть человека вдвое старше и слабее тебя, а через пять минут его убивают, а ты остаешься жить – жить со страшным сознанием, что ты был прав, что это была не ошибка, которую можно загладить хотя бы раскаянием, а железная необходимость, которая повторится еще много раз; если ты знаешь, что это не трагическая случайность, а просто-напросто закономерная часть той действительности, в которую ты теперь погружен...
То, что он когда-то чувствовал, прикасаясь к Таниной руке, глядя на нее или слыша ее смех, наверное, определялось не только Таниными качествами, тембром голоса и наружностью; наверное, это определялось и какими-то его личными свойствами, его взглядом на девушку, его внутренним отношением к ней, его способностью относиться к ней именно так, а не иначе. Но ведь он был тогда совсем другим!
Он снова полистал журнал, пробежал очерк о рейдах бомбардировщиков дальнего действия, посмотрел на снимки, доставленные из Ленинграда, полюбовался последним рисунком Бор. Ефимова на четвертой странице обложки: один фриц, перепуганный до смерти, цеплялся за выступ скалы в кавказском ущелье, другой уже падал вниз, а сверху за всем этим наблюдали суровые лица горцев в папахах. Была в журнале еще «кинопьеса», действие которой происходило в Чехии. Сергей начал было читать, но скоро зевнул и бросил журнал. Чувствовалось, что автор никогда не видел того, что описывает, и описывает все это только потому, что сейчас – после убийства Гейдриха – особенно нужно и своевременно писать о героической борьбе чехов против фашизма, а главным образом потому, что все это сочинительство дает автору приятное сознание «места в строю».
Он сам не заметил, как заснул. Радио где-то за стеной играло «Мы не дрогнем в бою за Отчизну свою», а потом началась какая-то другая музыка, и все смешалось, и он уже оказался в маленьком дворике, который в то же время был Садовым кольцом, и кто-то был с ним рядом – не то сегодняшний младший лейтенант с Таганки, не то Надюха из ярославского госпиталя. Ну факт, это все-таки оказалась Надюха, и она опять сказала ему, что он совершенно не умеет целоваться и что если у него и была когда-нибудь девушка, то не многому же она его научила. А потом – не сейчас, во сне, а тогда, в действительности, в Ярославле, – она задала ему еще один вопрос, и он обругал ее, потому что не мог позволить, чтобы так говорили о Тане, – хотя знал, что Надюха спросила это совсем не со зла, и вообще она была хорошая девчонка – наверное, именно поэтому все и получилось...