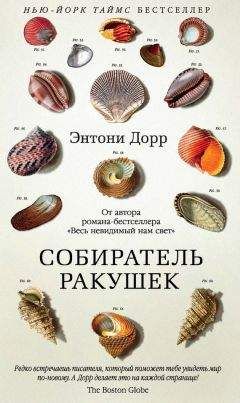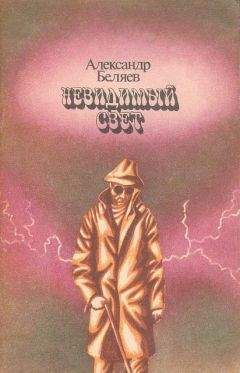Энтони Дорр - Весь невидимый нам свет
– Мы поедем в Париж, – говорит он. – Я там никогда не бывал. Ты его мне покажешь.
Свет
Вернера берут в полутора километрах к югу от Сен-Мало трое бойцов французского Сопротивления, объезжающие улицы на грузовике. Сперва они думают, что спасли маленького седого старичка. Потом видят под рубашкой старомодного покроя немецкую форму и решают, что сцапали крупную добычу – вражеского лазутчика. Наконец они понимают, что Вернер – мальчишка. Они сдают его американскому дежурному в реквизированной гостинице, превращенной в центр разоружения. Вернер боится, что его загонят в подвал – только не снова в яму! – но его отводят на третий этаж, где смертельно усталый переводчик, который уже месяц записывает немецких пленных, машинально задает несколько стандартных вопросов: фамилия? имя? звание? Дежурный тем временем уже проверил вещмешок и отдает его Вернеру.
– Девушка, – говорит тот по-французски, – вы видели?..
Однако переводчик только ухмыляется и что-то говорит дежурному по-английски, как будто все допрошенные им немецкие солдаты спрашивали про девушек.
Вернера отводят во двор, обнесенный колючей проволокой. Здесь уже сидят восемь или девять немцев в сапогах, держат помятые армейские фляжки. Один в женском платье, в котором, видимо, пытался дезертировать. Двое старшин, трое рядовых. Фолькхаймера нет.
Вечером приносят котел с супом, Вернер проглатывает четыре порции из жестяной кружки. Через пять минут его рвет. Утром снова суп; Вернер ест медленнее, но результат тот же. Над головой плывут облака. Он думает про Мари-Лору – ее руки, ее волосы, – хоть и боится, что, если перебирать воспоминания слишком часто, они сотрутся. Через день после ареста его вместе с еще двадцатью пленными проводят по улицам до склада, где уже находится больше ста человек. Через открытые ворота Вернер не видит Сен-Мало, но слышит самолеты, множество самолетов. Над горизонтом днем и ночью клубятся столбы дыма. Дважды медики пытаются накормить Вернера жидкой овсянкой, и оба раза его тошнит. Персики были последним, что принял его желудок.
Может быть, вернулась лихорадка; может, он отравился жижей из-под малярных кистей в подвале; может, организм больше не хочет жить. Он понимает, что если не будет есть, то умрет, но проглотить что-нибудь – еще страшнее, чем умереть.
Со склада их переводят в Динан. Большинство пленных – мальчишки или почти старики. Они несут плащ-палатки, вещмешки, ящики, у некоторых яркие чемоданы неведомого происхождения. Есть однополчане, и они обычно идут рядом, но большинство ни с кем не знакомы, и все видели такое, что предпочли бы забыть. И все чувствуют, что за спиной поднимается прилив, растущий вал медленного мстительного гнева.
Вернер идет в твидовых брюках дядюшки Мари-Лоры, с вещмешком за спиной. Ему восемнадцать. Всю жизнь учителя, радио, вожди твердили Вернеру о будущем. И где оно теперь, будущее? Дорога впереди пуста, траектории его мыслей устремлены внутрь: он видит, как Мари-Лора с тростью исчезает, словно пепел от костра, и тоска мучительно стучит о ребра.
Первого сентября Вернер, проснувшись, не может встать. Двое других заключенных отводят его в сортир, потом укладывают на траву. Молодой врач-канадец светит ему в глаза фонариком. Потом Вернера укладывают в кузов грузовика, везут какое-то время и вносят в палатку, полную умирающих. Медсестра что-то колет ему в руку, ложкой вливает в рот какой-то раствор.
Неделю он живет в странном зеленоватом свете большой брезентовой палатки: в одной руке зажат вещмешок, в другой – угловатый деревянный домик. Когда есть силы, Вернер разбирает головоломку: поворачивает трубу, сдвигает три дощечки, заглядывает внутрь. До чего же умно сделано!
Каждый день справа и слева от него еще одна душа уносится к небесам, и Вернеру чудится далекая мелодия, как будто в запертой комнате играет большой старый приемник, но услышать музыку можно, только прижавшись здоровым ухом к матрасу, и по временам он не уверен, что она и вправду звучит.
Вроде бы Вернер должен на что-то сердиться, но он не помнит на что.
– Он не ест, – говорит медсестра.
Нарукавная повязка с красным крестом.
– Температура?
– Высокая.
Еще слова. Потом числа. Во сне он видит ясную морозную ночь, каналы подо льдом, в шахтерских домах горят окна, а крестьяне катаются по полям на коньках. Видит спящую в Атлантике подводную лодку; Ютта прижимается лицом к иллюминатору и дышит на стекло. Вернер почти ждет, что сейчас Фолькхаймер протянет огромную ручищу, поможет ему встать и забраться в «опель».
А Мари-Лора? Чувствует ли она по-прежнему его пальцы между своими, как он чувствует ее?
Как-то ночью он садится на койке. Рядом несколько десятков больных и раненых. Теплый сентябрьский ветер колышет палатку.
Вернер крутит головой. Ветер крепкий и еще усиливается, брезент парусит, и в просвет входа видны качающиеся деревья. Повсюду шорохи. Вернер расстегивает вещмешок, убирает туда старую тетрадь и домик. Все спят, только на соседней койке раненый что-то бормочет вопросительно, обращаясь к самому себе. Впервые за долгое время Вернеру не хочется пить. Он ощущает лишь рассеянный лунный свет, проникающий сквозь палатку. За распахнутым пологом бегут над деревьями облака. В сторону Германии, в сторону дома.
Синие и серебряные, серебряные и синие.
Между койками летают бумажные листки, сердце у Вернера бьется быстрее. Он видит, как фрау Елена стоит на коленях перед чугунной печкой и ворошит уголь. Дети в кроватях. Маленькая Ютта спит в колыбели.
Отец зажигает фонарь, входит в клеть и пропадает.
Голос Фолькхаймера: какое же у тебя будущее…
Тело под одеялом стало совсем невесомым; за хлопающим пологом палатки танцуют деревья, тучи плывут чередой; Вернер сбрасывает с койки сперва одну, потом другую ногу.
– Эрнст! – зовет человек рядом с ним. – Эрнст!
Но никакого Эрнста тут нет, люди на койках не отзываются. Американский солдат перед палаткой спит. Вернер выходит мимо него на траву.
Ветер задувает под майку. Он – парус, воздушный шар.
Как-то они с Юттой смастерили деревянный кораблик. Ютта раскрасила его яркими-преяркими красками, малиновой и зеленой, торжественно отнесла к реке и опустила на воду. Однако течение подхватило кораблик, опрокинуло его набок и унесло в черную стоячую заводь, куда им было не добраться. Ютта моргала мокрыми ресницами и теребила распущенные петли вязаной кофты.
– Все хорошо, – сказал ей Вернер. – С первой попытки мало что удается. Мы сделаем другой корабль, лучше.
Сделали ли они другой корабль? Вернер надеется, что да. Он вроде бы вспоминает, как другое суденышко, более мореходное, скользило вниз по реке. Оно исчезло за излучиной, оставив их позади. Было это или нет?
Лунный свет сияет и клубится; над деревьями бегут рваные тучи. Летят осенние листья, но лунный свет неподвижен, его лучи проходят через облака, через воздух, пронзают полегшую траву.
Почему свет не отклоняется на ветру?
Американец замечает, что кто-то вышел из палатки-лазарета и теперь движется на фоне деревьев. Он садится, поднимает руку, кричит:
– Стой! Halt!
Однако Вернер уже на краю поля. Здесь он напарывается на мину, поставленную его же армией три месяца назад, и взлетает вместе с фонтаном бурой земли.
11. 1945 г.
Берлин
В январе сорок пятого фрау Елену и последних четырех девочек из сиротского дома – близняшек Ханну и Сусанну Герлиц, Клаудиа Фёрстер и пятнадцатилетнюю Ютту Пфенниг – отправляют в Берлин, на завод.
По десять часов в день, шесть дней в неделю, они разбирают тяжелые штамповочные прессы и складывают металлолом в ящики, которые потом погрузят на поезда. Отвинчивают гайки, пилят. Обычно фрау Елена работает рядом с девочками, в рваной лыжной куртке, которую нашла на улице, и тихонько бормочет себе под нос по-французски или напевает песни своего детства.
Они живут над брошенной месяц назад типографией. В коридорах стоят сотни ящиков с бракованными словарями, девочки рвут их на страницы и топят ими чугунную печку.
Вчера Dankeswort, Dankesworte, Dankgebet, Dankopfer[50].
Сегодня Frauenverband, Frauenverein, Frauenvorsteher, Frauenwahlrecht[51].
Капуста с перловкой на обед в заводской столовой, бесконечные очереди с талонами по вечерам. Три раза в неделю выдают порцию масла размером в половинку кусочка сахара. Вода из колонки в соседнем квартале. У матерей с маленькими детьми нет пеленок и колясок; им выдают коровье молоко, но очень мало. Кто-то рвет на подгузники старые простыни, кто-то закладывает младенцам между ногами сложенные треугольником газеты.