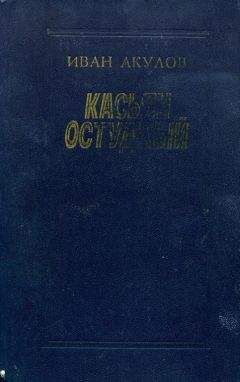Иван Акулов - Крещение
— Сам борода Пятов спрашивал о тебе. Я говорю: шуруют. Да вы и в самом деле того… молодцы. А с ногой что? Ну слава богу. Пойдем вовнутрь — перекусим, поговорим.
— Я за лошадью послал, товарищ майор. Задело ступню, а жар по всей ноге. С этой клюкой всю ночь скакал. — Филипенко здоровой ногой пнул длинную, отшлифованную до блеска солдатскими ладонями винтовку, облизал сохнущие губы.
— А вы, ребятки, не теряйте-ко времени зря, ступайте грейтесь, а то не ровен час… — сказал Афанасьев и сел рядом с ротным на ящики.
— Коля, — Филипенко окликнул Охватова, первый раз назвав его по имени, — ты придешь в медсанбат, если письма мне будут. И вообще придешь… Товарищ майор разрешит.
Филипенко рассказал Афанасьеву о ночной вылазке, отдал ему список убитых, вспомнил о рядовом Соркине.
— Странно то, что пошел с нами по желанию, а потом струсил.
— Может, решил перекинуться?
— Да нет, этот в плен не пойдет. Струсил.
— Заварухин поддержал меня, чтоб представить вас к наградам. Да вряд ли, думаю, что выйдет. Станцию отбили, а чем держать? Он бы наверняка опрокинул уже нас здесь, да прикрылись мы овражком. Станцию, Филипенко, не удержим — борода Пятов наградных не подпишет. Как ты сидишь, пробирает ведь?
— А у меня — видишь? — Филипенко сдвинул шапку со лба — в крупных молодых морщинах лба копился обильный пот. От висков на скулы его натекал неровный, больной румянец.
— Может, все-таки пойдем в тепло?
— А вон едут. Я дальше медсанбата не поеду, пусть Охватов прибежит ко мне.
— Пусть прибежит.
— Как решит борода Пятов, это его дело, а ребят надо представлять. Охватова на орден.
Во двор въехали розвальни и остановились перед поваленными воротами ремонтной мастерской, где топилась походная кухня. С саней на снег полетели какие-то коробки — не то с мылом, не то с селедкой.
— Вот ведь разгильдяй! — сказал Афанасьев. — Не нашлось ему другой лошади. Эй, ты! — погрозил он старшине. — Я вот тебе!
Филипенко поднялся, оперся коленом больной ноги на ящик. Афанасьев подал ему винтовку.
— А как душа, Филипенко, настроение-то есть?
— Да ничего настроение. Досыта поспать бы.
— А у меня, понимаешь, какая штука. Вот обрадуюсь чему-нибудь, так хорошо станет, а следом давят уж на душу прямо неразрешимые мысли. Сейчас станцию взяли, тебя увидел, приободрился, вроде повеселело на душе, а где-то точит и точит все. Сколько же, думаю, впереди этих станций и сколько нам понадобится таких умных и безупречных Филипенок? И хватит ли их вообще?
— Когда шли к Ельцу, в какой-то деревне, Пружинки, по-моему, бойцы принесли мне сброшенную немецкой «рамой» газету «Колокол». Белогвардейская газетенка, безграмотная, неряшливая, и там среди прочей ерунды пишет какой-то русский писатель-эмигрант. Не помню уж сейчас его фамилию. Да и не в фамилии дело. Одна мысль обронена там интересная, на мой взгляд. Особенность русского человека, пишет он, состоит в том, что он, по природе своей тихий и терпеливый, чурается шумной общественной жизни, сторонится ее даже тогда, когда его спихивают в канаву. Молчит, если спихивают его одного. Так вроде и надо. Но в дни народных бедствий и потрясений в каждом русском пробуждается извечное чувство стойкости, и в общей массе каждый русский — герой, способный на великие жертвы, и нередко поднимается до забот государственного масштаба…
— А вывод-то какой он из этого делает?
— Вывод-то он делает свой, товарищ майор, русский человек поднимается вроде против большевиков, которые навязали ему эту страшную войну. Вывод-то коту под хвост, а вот с тем, что русский в дни народных потрясений поднимается до забот государственного масштаба, я согласен. Подходит ко мне сейчас Охватов и говорит: теснить-де надо немцев хотя бы еще километров на двадцать чтобы железная дорога на нас работала. Вот вам и рядовой Охватов. Так что вы, товарищ майор, не унывайте: на нашей земле не иссякнут самородки. Нет. Длинно я сказал, товарищ майор, а все для того, чтобы вас успокоить. У меня — да и у каждого, наверно, — тоже бывает: накатит вдруг — ни света, ни просвета, а я посмотрю на этих Охватовых да Урусовых, посмотрю, как они все сносят, как живут, как умирают, и нету печали в душе, нету опасения за Отечество. И на вас гляжу…
Филипенко часто облизывал губы, весь наливался огнем, потому и говорил возбужденно, горячечно блестя густо пожелтевшими белками глаз. Испытывая перед товарищами чувство виноватости, что оставляет их в сложной обстановке, Филипенко несколько раз повторил:
— Я дальше медсанбата не поеду. Вернусь скоро.
Нежное, родственное к раненому и по-мальчишески искреннему человеку переживал и майор Афанасьев.
— Ну спасибо тебе, Филипенко. — Майор пособил старшему лейтенанту сесть в розвальни, далеко отшвырнул в сугроб мадьярскую винтовку и рассерженно сказал: — Со всего белого света натаскали, а молиться русскому богу будут. Все так думают.
Последних слов комбата Филипенко не расслышал, потому что ездовой хлестнул по лошади застывшими брезентовыми вожжами, и сани покатились с холодным визгом и постукиванием полозьев.
XIII
В полдень немцы выбили 1913-й стрелковый полк из поселка и начали массированный обстрел станции и МТС. У майора Афанасьева взяли для обороны станции последний пулеметный взвод, и батальон остался с одними винтовками и гранатами. Ожидая начала атаки со стороны поселка, бойцы долбили в непрочной кладке кирпичной ограды МТС амбразуры и бойницы, таскали в снежные норы из мастерской всякий железный хлам.
Хоть и сведен был в одну роту батальон Афанасьева, но старшины рот кормили и заботились каждый о своих бойцах. Старшина второй роты Таюкин еще утром съездил в поселок, где бойцы 1913-го стрелкового полка растребушили немецкий продовольственный склад, и привез оттуда две сотни рождественских подарков. Это были довольно вместительные картонные коробки, раскрашенные под мореный дуб, с тисненой веточкой и шишками ели. На веточке горела тоже тисненая свеча, и язычок пламени освещал кусочек горного заснеженного пейзажа. В коробке, в фольговой обертке, были уложены шоколад, халва, шпроты, бутылка вина, сигареты, а кроме этого, по коробкам были рассованы игральные атласные карты небольших форматов, наборы открыток, носовые платки из тонкой байки, билеты в бременскую оперу, молитвенники, духи и нательные кресты с цепочкой.
Вначале старшина Таюкин роздал подарки только бойцам своей роты, но стали приходить из других рот, и он не отказывал. Через полчаса батальон Афанасьева почти весь был навеселе, а бойцы из второй роты урвали себе по две коробки и попросту напились. На эту пору почему-то притихли немцы, и вторая рота в просквоженном корпусе мастерской затянула песню; откуда-то взялась балалайка. Под куцый звон заржавевших струн коротконогий боец в длинной комсоставской шинели с низкими карманами легко выхаживал «Камаринскую», чуть-чуть касаясь промасленного земляного пола сгоревшими от старости сапогами. Помахивая над ним розовым платочком, тяжело топал по земле высокий пожилой боец с худой шеей и выводил резким, пронзительным голосом:
Разгулялся тут камаринский мужик,
Снял штаны и вдоль по улице бежит…
Старшина Таюкин с двумя сержантами, взводными, сидели на ворохе пустых коробок в бывшей медницкой, а на выломанном подоконнике перед ними стоял самовар, весь в малахитовых потеках. Старшину и взводных, отрешенных от всех забот, забавляло и смешило то, что они пьют французское вино из тульского самовара, украшенного по медной груди множеством медалей. На дворе и под стеной начали рваться мины, а старшина Таюкин, без шапки, с косой челкой и голыми висками, жестикулировал лапастыми выразительными руками:
— …И сидят те генералы. Пьют себе, и горюшка им мало. Стук-стук. «Разрешите войти?» — «Битте, пожалуйста», — говорит немецкий генерал. А солдат, видели, как они, руки лодочкой, пальцы в бедра и поллитровку на стол. «Гут», — говорит генерал. И опять: тук-тук. «Да, да». Входит французский солдат. «Бонжур, мусье генерал». И поллитровку на кон. Немецкий-то генерал с французским выпили уж, а Ивана все нет. Потом открывается дверь — и вот он, сам Иван. «Принес?» — пытает русский генерал. «Никак нет, господин генерал. Шапку все не найду…»
Взводные весело смеются, а старшина длинными узловатыми пальцами приглаживает на лбу челочку и плутовски играет глазами, глядя на струйку вина, которая течет из самовара в консервную банку.
— Или вот еще, подрядился солдат учить поповскую дочь грибы собирать…
Но скабрезную историйку про солдата старшине рассказать не удалось, потому что на крыше мастерской разорвалось два снаряда, и тут же грохочущая волна опрокинула тишину. По стенам и окнам цеха немцы начали стрелять из скорострельных зенитных орудий — уж только поэтому можно было догадаться, что они готовятся к атаке. Но люди, уставшие от большого нервного напряжения, с неутолимой жаждой пили легкое вино и в коротком хмелю забылись и не думали о войне, а когда начался интенсивный обстрел, не сразу поняли, где они и что вокруг них происходит. Опомнившись, более трезвые испугались, заметались, ища укрытия, пьяные же — им море по колено — в приливе безумной удали лезли под огонь с бранной руганыо. А немцы, пользуясь нерасторопностью обороны, подтягивались к самым разрывам своих снарядов и уже доставали из автоматов стены мастерской.