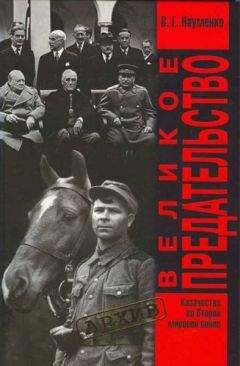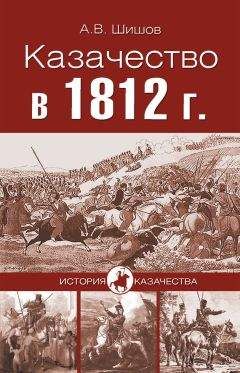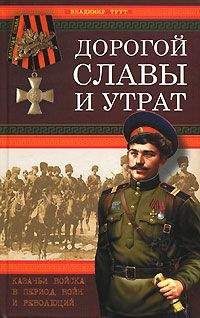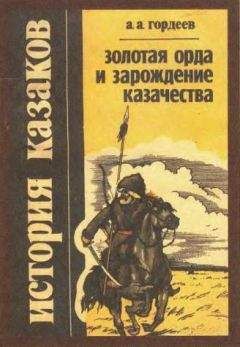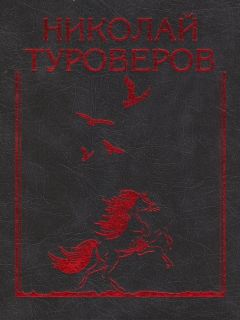Николай Краснов-младший - Незабываемое.1945 - 1956
Все с нетерпением ждали конца «церемонии» и шли на обед. Давали очень прилично, по случаю праздников, «из неприкосновенных запасов МВД». Минимум три — четыре блюда, сладкое, но без спиртных напитков.
После обеда одни шли смотреть спортивные состязания, другие танцевали под лагерный «джаз», но большинство шло в клуб, где свои же люди давали концерт. Среди нас были прекрасные артисты, профессионалы, музыканты, певцы, декламаторы. Иной раз к нам заезжала эстрадная группа Московского театра «Сатира». Можно было искренне посмеяться. Их миниатюры были остроумны и часто не в бровь, а в глаз били по МВД. Конечно, завуалированным способом, но нам было достаточно намекнуть, и мы в восторге буквально ржали. Часам к девяти вечера начинался разъезд по лагерям. Мерседес-Бенцы и Кадиллаки у нас заменяли те же грузовики. Прощания. Объятия. Часто эти слеты были единственной возможностью для встречи друзей, влюбленных, мечтающих пожениться. До свидания через три — четыре месяца!
Шло время. День за днем. Терпение иссякало. Мы с горечью подтрунивали друг над другом, то декламируя «а счастье было так возможно, так близко», то распевая в ухо замечтавшемуся приятелю — «ах, дайте, дайте мне свободу!» и в этой шутке мы скрывали раздраженность, напряжение и горечь.
10 августа для меня было таким же днем, как и все другие. Отработал свою шахту, вернулся в лагерь, вымылся в бане и с мокрым полотенцем в руках, на ходу вытирая шею и волосы, направился в лагерную парикмахерскую, привести лицо в порядок. Вдруг мне навстречу бежит мой друг, Миша Невзоров. Лицо белое, как бумага, глаза горят, как плошки:
— Николай! — кричит он. — Николай! К Лиле едешь, понимаешь?
Нет. Я ничего не понял. Я только весь похолодел и почувствовал, как мои ноги становятся ватными.
Миша обнял меня, и мне передалась его дрожь.
— Ты свободен, Николай! Пойми! Свободен! Повтори это слово! Повтори!
— Но как? — лепетал я. — Куда? Как к Лиле? Я ведь не знаю, где она и жива ли?
— Свободен! — ликовал милый Невзоров. — Тебя амнистировали Указом Президиума Верховного Совета от 27 июля, как югославского подданного. Едешь в Потьму, а оттуда — домой! Только что пришла радиограмма из Москвы. Ты и некоторые другие.
Как амнистирован? Я ничего не понимал. Я отсидел своих 10 лет и пять месяцев в придачу. Почему же амнистия?
— А ты? — обратился я к другу.
— Пока ничего! Не унывай, авось и мой черед придет! Теперь давай вместе радоваться за тебя! Дорогой, дорогой Миша.
Радость моя была безгранична. Радовались со мной и другие. Все мы ждали одного — свободы. Узнали мы, что вышло несколько указов, по которым стали освобождать иностранцев. Президиум «амнистировал» в конце июня австрийцев, 27 июля югославцев, 29 июля поляков, 30 июля чехов, 2 августа французов и бельгийцев и т. д. и т. д. Я не запомнил все даты и все национальности, знаю одно: упоминались абсолютно все народности мира. Наши лагеря были настоящим интернационалом.
Нас, югославских подданных, освободилось двадцать пять человек, и мы, как и другие национальности, попали сначала в Потьму, затем в Быково под Москву и уж оттуда на свободу. До конца 1955 года почти все выехали за границу, кроме югославов, которым ставил всяческие препятствия посол Видич. Я единственный выскочил из этой группы, благодаря моей кузине в Швеции.
В СССР оставались только спец-техники, которых режим никому не хотел отдать, русские «иностранцы», чья судьба до сих пор не решена, так называемые «аллиерты» и громадное количество закрепощенных немцев. Но в мои дни Потьма и Быково пухли от радостных «репатриантов».
Путь обратно
Рассчитываться с лагерями — веселое дело. Все, что я имел, что накопил, носильные и другие вещи роздал товарищам, которые оставались в Чурбай-Нуре.
В дни пребывания в этом городке, в лагере, я делал кое-какие записки, но, подумав, перечел их несколько раз и уничтожил. Боялся обысков и последствий.
Время перед отъездом проходило, как в угаре. Я впервые стал верить в встречу с женой и матерью. Впервые я решил, что они живы, что они должны быть живы, как для них остался жить я. По ночам спать я не мог и лихорадочно перебирал в голове весь мой моральный багаж. Вспоминал, как бы укладывал в голове факты, встречи, разговоры. Мне до боли захотелось найти могилу отца, побывать в Москве и мысленно помолиться у стен Лефортовской тюрьмы о душах погибших деда, дяди и иже с ними. Я разбирался сам в себе, в своих чувствах к России, которую я обрел под красным плащом СССР, в чувстве моем к народу. Я почувствовал укол тоски. Я ехал на свободу, но на чужую свободу, к людям, говорящим на чужом языке, исповедывающим чужую религию.
Но и эти уколы ни на сотую долю секунды не рождали желания остаться. Нет! Я должен был идти туда, где я смогу, я верил, лучше служить своей родине, чем на угольных копях Казахстана. — Словом и делом! повторял я сам себе. — Словом и делом, как завещал дед, как наказывал отец.
Словом и делом, чтобы заслужить право считать себя русским.
Весть о моем освобождении разнеслась по всему городку. Многие «вольные» приходили поздравить меня. У одних глаза искрились сердечной радостью и любопытством. У других они туманились какими-то скрытыми мыслями. Была ли это затаенная, понятная, маленькая человеческая зависть или мечта самим побывать в далеком свете, увидеть, узнать?
— Куда же вы поедете, Николай Николаевич? — спросила меня одна совсем молоденькая, милая девушка, приехавшая из Центральной России в Казахстан, к отцу, недавно освобожденному «контрику».
— На свободу, Дашенька!
— На сво-бо-ду. — протянула она, не поднимая на меня глаз. — Свобода! Слово-то какое! Крылатое, широкое, большущее!
— А как вы, рожденная здесь, понимаете свободу?
— Понимаю и не понимаю. Как море, что ли. Видела его однажды. Как ветер. Вот в природе — понимаю, а для человека, не знаю.
Бедная Дашенька, потерявшая мать во время войны, воспитанная теткой и в шестнадцать лет впервые нашедшая семью и уют в скромной квартирке своего преждевременно состарившегося, согбенного и седого отца. Уют и родственное тепло.
— А куда же? — допытывалась она. — В какую страну?
— Куда примут. Ведь я ничего не знаю о родных, Даша. Ни о матери, ни о жене. Живы ли.
— Живы! — вдруг с уверенностью и восторгом вскрикнула девушка. — Живы и ждут! — вот скажите, там куда поедете, всюду будете свободным?
Что я, после Лиенца, после своего знакомства с иностранцами, государствами и правительствами, мог ответить советской девушке Даше?
— Как вы понимаете это слово — да!
— Сможете ездить, куда хотите? Учиться, водиться с теми людьми, которые вам нравятся? Сможете работать на том, к чему вас сердце тянет?
— Да, Дашенька! — ответил я, но боюсь, что в этот момент сильно кривил душой.
— И я, если бы попала туда, на свободу, и я могла бы так жить?
— Да, Дашенька!
Я поторопился распрощаться. Мне было трудно говорить с этой честной и прямой русской девушкой, стремящейся к знанию, к развитию, к неизвестной и непонятной свободе. Мне вдруг стало душно и не по себе. Ведь я и сам не знал, что меня ждало в «свободном мире».
Много подобных разговоров пришлось мне вести перед отъездом. Много раз я мысленно разводил руками, боясь заведомо солгать и стараясь не думать о возможной правде. Помню еще, раз я говорил с «молодой Россией», когда один юноша забрасывал меня вопросами, сам торопясь отвечать на них, перебивая меня и кипятясь.
— Вот вы поедете за границу. Вы сами, говорите — русский. А я знаю, там всех русских ненавидят. Ненавидят Россию. У нас в вашем «свободном мире» нет друзей, нас бы живьем съели, всю страну огнем сожгли, на куски разрезали и по кускам уничтожали!
— Откуда у вас, тезка (Колей его звали), такие мысли?
— Что мысли! — разговаривал, встречался. И с теми, кто у немцев в лагерях от голоду дох, кого «унтерменшем» называли, и с теми, кто в оккупационных войсках побывал.
— Ну за время войн, Коля, немцы всех «унтерменшеми» считали. Я их не защищаю. Гитлер был безумец и действительно шел на расчленение России, но теперь. Это пропаганда, мой друг. Вас нарочно так воспитывают в ненависти к другим народам.
— Неправда! Мы никого не ненавидим, а нас все. Весь мир! Я знаю! Мне дед говорил. Он при царях жил. Он говорил, что весь мир всегда России на богатстве и широтах завидовал, боялся ее могущества.
Я знал, что Коля не коммунист. Он болел российской скорбью, любил свою страну и был воспитан, или сам в себе воспитал болезненно повышенное национальное самолюбие, болезненный патриотизм. И его, и Дашу, и многих Николаев и Даш терзали разнородные чувства: стремление к свободе и страх от «свобод», подобных тем, которые штыки принесли им в 1941–1944 годах.
Среднее поколение — более легкое в разговорах. У них или открытый протест, или известная, укоренившаяся резигнированность. Так уж нам придется доживать век, если как-нибудь не переменится. Молодежь же пылает и горит и в этом горении, как в кузнице, кует свое личное, молодежное мнение и, может быть, будущую судьбу нашей России.