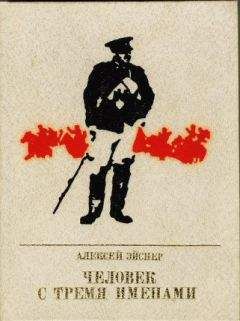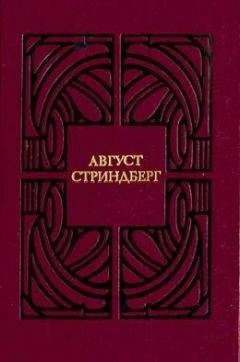Алексей Горбачев - Последний выстрел. Встречи в Буране
Дмитрий удивился — разве он пригибается? Оказывается, да, пригибается. Ему было страшно, и этот страх давил, заставлял падать. Дмитрию чудилось порой, будто все стволы немецких орудий направлены только на него одного. Поэтому-то он был несказанно удивлен и ошарашен, когда увидел повара Михеича. Тот как ни в чем не бывало жарил на сковородке лук и даже насвистывал что-то, кажется, песенку из фильма «Веселые ребята».
— Ну и шпарит же, окаянный, — заговорил Михеич, кивая головою в сторону передовой. — Помню, вот так же было под Ольховкой...
— Михеич, а вам разве не страшно? — спросил, заикаясь, Дмитрий.
Повар подхватил сковородку, подул на нее.
— Эх, сынок, сынок, — отвечал он, — всем страшно, это только дураку море по колено, а у нормального человека все в норме: и страшно ему, и боязно... Да ведь куда денешься? Войны без этого не бывает. Ты, сынок, бодрись, не давай страху овладеть собой. Самое что ни на есть плохое дело, ежели страх на шею сядет. Тогда пиши — пропало...
Раненые, раненые... Их везли на санитарных двуколках, несли на носилках или плащ-палатках, многие ковыляли сами. Дмитрий почему-то подумал о друзьях-студентах, которые там, в пекле боя. А вдруг кого-то из них принесут или привезут раненым? Ему, Дмитрию, станет неловко и стыдно от того, что он живой и невредимый, а товарищ уже лежит в окровавленных бинтах. Но раненых студентов он пока не встречал и ничего не слышал о них.
— Гусаров, бинты!
— Гусаров, носилки!
— Гусаров, шприцы!
Странное дело. Когда он тащил в палатку мешок с бинтами или накачивал примус, он забывал на какое-то мгновение о прилипчивом страхе и даже переставал слышать гул и грохот. Но стоило только остановиться, на какое-то время остаться без дела, он опять все слышал, ему опять хотелось кинуться к щели...
Неподалеку от медицинского пункта, на пригорке, стояла артиллерийская батарея. Дмитрий видел, как артиллеристы с деловитой неторопливостью работали у пушек. Именно работали, другого слова он подобрать не мог. Слева, справа, спереди, сзади этой батареи вспыхивали черные столбики земли. Это стреляли по батарее немцы. Но бойцы-артиллеристы, как завороженные, продолжали свою работу, не прячась от вражеских снарядов. «Смелые, какие они смелые, — билось в голове Дмитрия. — Почему же я так боюсь? Неужели я трус? Неужели трус?»
И еще в этот грохочущий день Дмитрию подумалось, что, быть может, эта запасная линия обороны окажется главной, что именно отсюда прозвучит команда: «Вперед!», и немцы станут отступать, а на следующий день в сводке от Советского информбюро наконец-то появится желанное сообщение о том, что наши войска, измотав и обескровив противника, перешли в решительное наступление.
И вдруг ошеломляющий приказ старшего врача: свернуть полковой медицинский пункт, отступить назад... Почему? Зачем же отступать, если бойцы-артиллеристы бьют из своих орудий и, конечно же, бьют без промаха?
Дмитрий не мог этого понять.
Старший врач развернул карту. Делая на ней какие-то пометки, он говорил молоденькому доктору и фельдшеру Белкину:
— Вот здесь развернетесь. Я буду в штабе полка. Встретимся на новом месте. Не медлите!
Да, да, медлить нельзя: в лесок, где стоял медицинский пункт, время от времени залетали снаряды, взрывались, круша и ломая деревья.
Вместе со всеми Дмитрий торопливо грузил на брички ящики, мешки с бинтами.
— Трогай! — крикнул фельдшер Белкин.
Дмитрий бежал вслед за бричкой. Садиться на бричку было некуда: там, на ящиках, на мешках, сидели угрюмые и молчаливые раненые.
Дорога свернула на неубранное подсолнечное поле. Оно было уже основательно истоптано колесами машин, гусеницами танков. Подсолнухи кивали отяжелевшими корзинками, и трудно было понять — то ли они осуждают людей за отступление, то ли за бесхозяйственность.
Откуда-то сбоку стала бить тяжелая вражеская артиллерия. То там, то здесь дыбились косматые султаны земли, летели во все стороны вырванные с корнями подсолнухи, осыпая, как стреляные гильзы, созревшие черные семечки.
Когда миновали подсолнечное поле, Дмитрий увидел на дороге мчавшуюся на рысях кавалерию, и тут же подумал, что кавалерия, как это часто бывало в кино, подоспела в самый критический момент, что сейчас конники выхватят острые свои клинки, и командир в бурке (конечно же, в бурке, иначе Дмитрий не представлял себе кавалерийского командира) поведет в сокрушительную атаку удалых рубак, и те невидимые немецкие артиллеристы, что палят по подсолнечному полю, будут изрублены... Почему, почему же конники не выхватывают острых сабель? Почему они уходят куда-то в сторону?
...На следующее утро полковой медицинский пункт, как выразился фельдшер Белкин, с шиком был развернут в пустом корпусе бывшего дома отдыха работников просвещения. О том, что дом имел отношение к просвещению, говорила вывеска на арке у входа в парк. Большое здание с белыми колоннами, с лепным фронтоном стояло в глубине парка. К нему вела широкая березовая аллея с крашеными чугунными скамейками. Здание, видимо, было выстроено очень, очень давно, и в нем, должно быть, жил когда-то здешний помещик. Помещик же, а вернее сказать, его крепостные и усадьбу эту построили, и посадили тоненькие гибкие деревца. Деревца выросли, вымахали до самых небес, и теперь они густо-прегусто усеяны грачиными гнездами.
Грачи вдруг подняли такой шум-гам, такой неугомонный галдеж, что казалось, будто они сердятся на военных людей, что дерзнули приехать сюда со своими ящиками, мешками, носилками, палатками, со своими непривычными для здешнего парка запахами лекарств.
Всюду чувствовалась поспешность недавней эвакуации. Во дворе в кучу были свалены железные кровати, столы, стулья, тумбочки. На одной из тумбочек, по всей вероятности, линзой, было выжжено: «Я люблю тебя, Люся». Кто выжигал это признание и где теперь Люся, которую любили?
— Не снимай, Гусаров, с брички палатку, — предупредил фельдшер Белкин. — К тому дело идет, что недолго мы задержимся в этом дворце, потопаем скоро дальше...
Дмитрий обозлился. Что за «потопаем скоро дальше»? Да сколько можно «топать»? Неужели земля наша настолько велика, что можно отступать и отступать? Если верить фельдшеру Белкину, то и сюда, в этот бывший дом отдыха работников просвещения, придут немцы, и, возможно, немецкие медики развернут здесь свой медицинский пункт. А еще возможно, что в немецком обозе ползет сюда престарелый отпрыск того помещика, который сгонял крепостных строить здание, сажать деревца... Должен же в конце концов где-то быть тот рубеж, дальше которого уже нельзя отступать? Должен быть! А где он?
Дмитрию казалось, что за ночь они ушли далеко от фронта, что сюда, в старинный парк, в царство крикливых грачей, уж не продерется ошалелый грохот.
И вдруг точно раскололось над головой небо — опять загудело, загрохало, заухало.
Притихли, совершенно притихли грачи.
Примчался верхом на коне старший врач — запыленный, с припухлыми, покрасневшими глазами.
— Гусаров, садись на бричку и скачи в третий батальон, там раненых много, поможешь эвакуировать, — распорядился он.
Дмитрий сел на бричку рядом с мешковатым пожилым ездовым. Бричка затарахтела, затряслась по разбитой дороге.
— Надо спросить бы у старшего врача, где третий батальон стоит, — сказал ездовому Дмитрий.
— Знаю где, ноне был там, — отвечал боец — Если не сшибли, найдем.
Если не сшибли!.. Черт знает, какую чушь городит этот ездовой! И слово-то придумал — «сшибли», как будто речь идет о чем-то незначительном... Да ведь третий батальон — это лейтенант Шагаров, это его, Дмитрия, товарищи по институту!
В полукилометре от парка лежало в низине село. Парк и село разделял широкий пруд с зелеными камышовыми берегами. По селу била артиллерия. То здесь, то там рушились белые, будто игрушечные, хатки, пылал какой-то длинный сарай...
От села напрямик, по огородам, спешили к дороге конные артиллерийские упряжки. Когда бричка приблизилась, артиллеристы уже установили свои орудия, и командир кричал охрипшим, сорванным голосом:
— Приготовь бронебойные, могут появиться танки!
— Куда же мы едем? — всполошился Дмитрий.
— Куда, куда... Куда приказано, туда и едем, — невозмутимо ответил ездовой. — Лошадь вон совсем пристала. Оно и понятно, какой у нее корм? Поехал я ноне в ПФС, овса на складе нету. Весь овес вчерась немцу оставили. Разини... — ворчливо говорил боец.
Ехали прямиком по зеленой свекольной плантации, уже порядком притоптанной копытами, колесами, гусеницами. Бричка подпрыгивала, точно ее била лихорадка. А может быть, это тряслась не бричка, а дрожала сама земля, потому что впереди бесновалось месиво гула и грохота — там шел бой. Там горизонт заволокло черным дымом, и в том черном дыму, как молнии, бились красноватые огни выстрелов и взрывов, и там же, над горизонтом, каруселью кружились немые самолеты (немые потому, что рокот моторов заглушался гулом побоища).