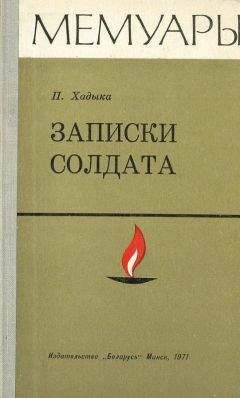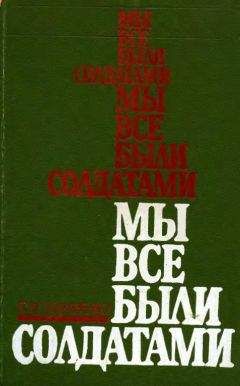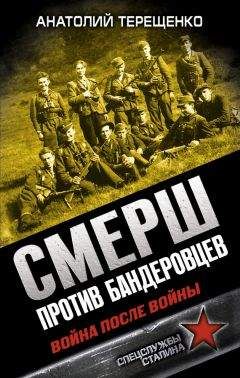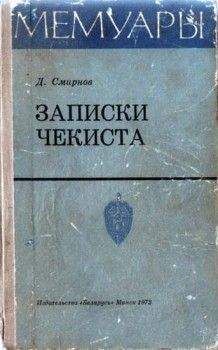Александр Проханов - Столкновение
— Вон Светлов в театральный хочет. Артистом стать хочет. А там, говорят, конкурс страшенный! Ему при конкурсе Афганистан зачтется? Или так, на равных правах?
— А я говорю, кому зачтется, а кому и нет. Характеристики будут смотреть. Какую тебе командир характеристику даст.
— Как, товарищ майор, с институтом?
Глушков не знал ничего про это. Вопрос солдат был о будущем, над которым он опять был не властен. Они смотрели на него, ожидая, веря в его всеведение, очень молодые, годные ему почти в сыновья. Он не имел детей. Его неосуществленное отцовство отозвалось вдруг болью и нежностью. Желал их обнять, приласкать. Расспросить поподробней, что там у них на душе. Они были ему «сынки». Но он был для них командиром. И не было в сегодняшнем дне места для боли и нежности. Сейчас поведет их в бой, под пулеметные очереди. И главное, что от них ожидалось, — умение воевать и сражаться.
— Про театральный институт не скажу. Здесь главное — талант, дарование. Есть оно у Светлова? В бою он артист, признаю. Помните, как в апреле КамАЗ из-под выстрелов вывел? А потом и «татру» — на бис. А характеристики я вам всем напишу. Самыми высокими словами, не сомневайтесь! Водитель, вперед!
Нерода нахлобучил танковый шлем, скрыв под ним золотистые завитки макушки. Тронул вперед транспортер. И все они разом колыхнулись, оделись ветром. Стали едины. Напряженной, сомкнутой, направленной в движение силой.
…Его детские переживания смерти делились на страхи за любимых и близких, их смерти он ждал и боялся, не сомневаясь, что рано или поздно она случится. И на мысли о собственной смерти, которые не пугали его, а лишь волновали, увлекали туманно и сладостно. Ибо в собственную смерть он не верил. Она была невозможна. Переносилась в неправдоподобное, бесконечно удаленное будущее. Была нереальной, не смертью, а чем-то превращающим его настоящую жизнь в жизнь иную. Может быть, в жизнь дождя, и тогда, превратившись в дождь, он сохранял способность видеть, дышать и чувствовать, сохранял свою личность. Если это была жизнь оленя или рыбы, или другого, еще не рожденного человека, он в олене, рыбе, в другом человеке оставался самим собой, знал о себе, что он есть, только переселился в оленя, в дождь, в травяное поле, в неродившегося человека.
Эта вера в переселение души была чудесной. Открывала в природе бесчисленное множество жизней, куда он мог спрятаться в момент смерти. И он чутко, с любовью и нежностью присматривался к своим будущим обителям — к траве, к птице, к ручью, к мокрой березе, к корове на деревенском лугу.
Иногда он представлял себя погребенным, в могиле. Но и это было не страшно. Он как бы спал, наполняя своим сном, своей непрекратившейся жизнью окружавшую его землю. Одушевлял ее, делал живой. Выпускал из себя на поверхность деревья и травы. Впитывал талую и дождевую воду. Слышал над собой ветры и грозы. Знал о снеге, о красной рябине, о прошедшем по тропе человеке. Был зерном, дремлющим, окруженным дремотной жизнью, готовым к новому росту, к свету, к новым земным урожаям.
Мысль о собственной смерти была не страшна. Была из области сказок. Была увлекательна. Страшна была мысль о мучениях. Мысль о застенке, куда его приведут, и подвесят, и станут драть раскаленными щипцами, и бить хлыстом по дрожащим ребрам, ломать железным ломом хрупкие кости. И палач, вонючий и потный, дыша зловонной пастью, станет хватать из жаровни раскаленный металлический прут.
…Его командирский план был несложен. В первую очередь, до начала большой стрельбы протащить, прогнать по ущелью мирные машины с людьми. Кособокие автобусы, переполненные крестьянами из соседних кишлаков. Юркие расхлябанные легковушки, перевозившие товары дуканщиков. «Барбухайки» — расцвеченные, аляповатые грузовики, груженные овощами и фруктами. Глушков был уверен: их душманы не тронут. Затем повести КамАЗы, тяжелые, зачехленные брезентом, с грузом для госхозов и строек, внедряя в колонны небольшие группы бензовозов, как бы подставляя их снайперам. Снайперы откроют огонь, обнаружат места засад, и тогда ударами минометов и, возможно, вертолетов, налетами быстродействующих бронетранспортеров сбить душманов с позиций, подавить огневые гнезда, организовать преследование. А затем, по завершении главного боя, начать проводку тяжелых колонн с топливом и военными грузами, обороняя их, сопровождая «бэтээрами», передавая от поста к посту, вступая в стычки с оставшимися, уцелевшими после ударов душманами.
Так представлял он себе течение боя, проныривая туннель с далеким перламутровым светом, из темноты вырываясь в бесшумную огромную вспышку солнца, зелени, голубизны, в многоцветное утреннее ущелье, по которому тонко, в изгибах, уходила вниз трасса.
— Прижмись-ка к обочине! — приказал он водителю, остановив «бэтээр» у Святой могилы. — Я — «двести шестой»! — вызывал он на связь ущелье, возвещая о своем приближении, о своем присутствии. Готовился спускаться, лететь, планировать вниз от голых каменных скал к теплой зеленой долине. — Пускайте первую легкую «нитку»! Поторопите их прохождение! Начинайте готовить серьезные «нитки»! Первая «нитка» идет без прикрытия!
Транспортер упирался кормой в рыжий откос. Могила колыхала зелеными тряпичными лентами. Погребенный мулла воздевал свои суковатые руки, грозил и пророчествовал. А из туннеля уже выносились первые машины, проворные, торопливые, и майор машинально их пересчитывал, запускал в ущелье. Брал их под свою опеку, защиту. Тревожился за безвестных, наполнявших машины людей. Пока колеса касались бетонки, он отвечал за их жизни. По первой тревоге был готов прийти к ним на помощь, заслонить собой их бороды, чалмы, тюбетейки, защитить огнем своего пулемета.
Сначала промчались обшарпанные, осевшие на задние колеса «татры», до того переполненные, что смуглые лица, прижавшиеся к стеклам, казались расплющенными. Легковушки одна за другой проносились, треща потрепанными глушителями. Шоферы пригибались к баранкам, желали казаться меньше, ниже, и комбат поймал на себе молниеносный тревожный взгляд водителя в белой чалме.
Затем покатили автобусы. Дымили, гремели, качались на крышах кули, сундуки, чемоданы. Сквозь грязные стекла виднелись бородатые лица, женщины в паранджах, маленькие, в пестрых тюбетейках дети. Покосившиеся, неустойчивые короба один за другим миновали Святую могилу, погружались в перламутровые тени и свет. Майор был спокоен за них. Едва ли им грозила опасность. Мелкие шайки придорожных грабителей нападали на такие автобусы только в сумерках. Обирали людей, растаскивали и уносили багаж. Сейчас, при утреннем свете, когда посты охранения лучше просматривали трассу, эти мелкие шайки бездействовали. Уступили место другим, пришедшим в Саланг из Панджшера, — гранатометчикам, пулеметным расчетам, стрелкам из безоткатных орудий. Военной обученной силе, чья цель не грабить, а уничтожать, убивать. Эти банды едва ли откроют огонь по старым безобидным автобусам. Будут ждать колонны с горючим, грузовики с боевым снаряжением. И майор, пропуская кривобокий автобус, обвешанный помпонами и блестками, кивнул водителю, приложившему руку к груди.
Следом пошли «барбухайки», высокобортные, похожие на фургоны грузовики, сплошь покрытые лубочными цветными картинками, будто борта облепили бабочки. Хозяева, покупая грузовой «мерседес» или «форд», не довольствовались фабричной эстетикой. Надстраивали кузов, сооружали над кабиной дощатое подобие люльки. Мастера-живописцы украшали грузовик разноцветным мелким узором — изображениями цветов, животных и храмов. Машина, утратив индустриальный, цивилизованный облик, превращалась в шатер, балдахин. Грузовики пестрели, рябили на трассе. В кузовах колыхались кудлатые овечьи спины, рогатые коровьи головы. В люльках над кабинами сидели женщины, дети, белобородые старики. Пристроившись в хвост «барбухайкам», прокатил военторговский фургон. Красивая продавщица помахала рукой, улыбнулась майору.
— Нерода, возьми-ка планшет! — Комбат передал водителю карты. — И давай-ка тихонько пошел!.. Держи осторожно дистанцию!
Они катили небыстро, не выпуская из виду последний разукрашенный грузовик. Облепили броню, разделившись надвое без приказа. Развели в обе стороны от дороги автоматы, взяв под обзор текущие близкие склоны. Если гора проплывала слева, а справа были откос и провал, где пенилась и гремела река, то башня осторожно разворачивалась в направлении горы, наводила на нее пулемет. А если скалы теснили машину справа, пулемет переводил на них свой раструб. Пулеметчик Кудинов щупал глазами камни, шарил, глядя в прицел, по окрестным вершинам.
Комбат сидел в командирском люке, глядел на высокую вертолетную пару, кружившую над дорогой. Горы еще не утратили утренних сочных расцветок. Сбрасывали к подножиям красные, желтые, золотистые осыпи. Казалось, на вершинах кипят котлы с вареньем — черничным, клубничным, смородинным. Пена переливается через край, сбегает по склонам.