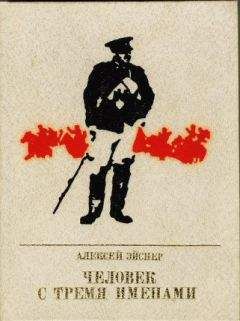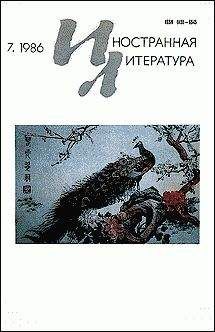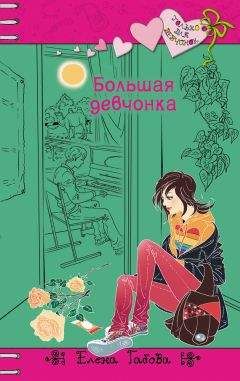Матэ Залка - Рассказы
Не хватило сил нажать дверную ручку.
Вдруг раздался знакомый протяжный голос:
— Доводится до всеобщего сведения…
Голос продребезжал по комнате и заставил содрогнуться.
Вот сейчас приказной вынимает бумагу, развертывает ее медленными, размеренными движениями.
Механик прижался к двери, затаив дыхание. И вдруг облегченно рассмеялся. Ведь «доводится до всеобщего сведения» в счет не идет. Все дело в тексте. Быстро миновав прихожую и совсем успокоившись, он вышел на крыльцо.
— Да, я — сумасшедший! Просто изнервничался. Ведь врач когда-то запрещал мне работать по ночам. Но тогда приходилось готовиться к экзаменам. Жить-то надо было.
На улице утвердилась настороженная тишина. Потом опять послышался голос приказного. Только немного погодя механик стал вслушиваться. Потом кубарем скатился с лестницы и бросился к калитке. Приказной уже складывал бумагу.
— В чем дело, сосед? Я не расслышал начала, — обратился он к стоявшему рядом мужчине.
— Да что уж там, хорошего мало. Черт бы побрал этот приказ! Не так уж много потеряли, что не слышали, господин механик. Вот будто бы война будет.
Сосед выбил трубку в ладонь.
— Ах ты, дьявол! Вот уж с чем можно было не торопиться.
— Вам тоже идти, сосед?
— А как же! А вам, господин механик?
— Мне? Разумеется! — пробормотал механик упавшим голосом.
— Да, а я еще к тому же гусар — ворчливо сказал мужчина. — Черт возьми! И надо ж было этому случиться как раз в страдную пору. Не пойти ли нам в корчму, господин механик? Там, говорят, какое-то объявление вывесили. Король пишет…
Уходя, механик оглянулся, но среди собравшихся женщин не заметил своей жены. Перед корчмой большая толпа. Громадные листы объявлений. Кто-то сказал:
— У волостного присутствия тоже вывесили.
«К моим народам!» — прочел он первую строчку, напечатанную жирным шрифтом.
Туманное, полуизгладившееся воспоминание упрямо стало всплывать в его памяти. Товарищи по профессиональной школе… Вечера в клубе, споры, обсуждения… Он подумал, что и теперь еще не все кончено. Ведь рабочие не сказали своего слова.
— Ну, и заварили кровавый квас! — обратился он к помощнику нотариуса, стоящему в толпе.
Тот рассмеялся и передал эти слова студенту-юристу, сыну арендатора, проводившему отпуск в деревне. У молодого человека были деньги, и помощник нотариуса, старый, уже порядком облысевший холостяк, покучивал с ним. Оба громко рассмеялись.
— Вам тоже идти, господин механик, не правда ли? — спросил помощник нотариуса.
— Вы небось лучше меня знаете, чей черед теперь подыхать! — резко ответил он.
Затем, вдруг что-то сообразив, отозвал помощника нотариуса в сторону. Его жгло любопытство. Он хотел дать себе ясный отчет, убедиться, в чем правда, и узнать, есть ли связь между происходящим и тем, что говорилось когда-то в клубах. Ведь тогда, в двенадцатом году, назревало то же самое, но рабочие сказали «нет», и беда миновала.
— Скажите, пожалуйста, — начал он, — можете положиться на мою скромность. Когда вы получили эти бумаги?
— Иошкино[2] письмо? — смеясь, произнес помощник нотариуса. — Видите ли… но зачем это вам?
— Надо… Вы что же, не доверяете мне?
— Я могу вам сказать, но… — Помощник нотариуса приложил палец к губам.
— Будьте спокойны.
— Получили-то мы их… — переходя на шепот, сказал помощник нотариуса, — чуть ли не за две недели до сараевских событий, но держали под замком до распоряжения.
— Благодарю вас, — тоже шепотом сказал механик, повернулся и пошел домой. Теперь он знал, что ему делать. Надо немедленно связаться со столичными товарищами. Ведь должно же быть противоядие этому безумию? Лицо его было бледно. Он нервно жевал кончик уса. Люди шумно обсуждали воззвание короля.
«Война, война», — раздавалось всюду. Это слово произносилось на все лады. В голосах женщин звенели слезы. Он подумал о жене и ускорил шаги.
— Война, война! — простонал он. — Надо бы повернуть обратно на площадь и так же, как в двенадцатом году, сказать правду, призвать ко всеобщему сопротивлению…
Но он понимал, что молчание сейчас — цена жизни. В комнате было темно. Он чувствовал, что жена здесь, через мгновение она рыдала у него на груди. Сжал ее в объятиях, поцеловал и шепнул на ухо:
— Не надо, дорогая… Дети испугаются.
Зажгли лампу. Он смотрел в ее заплаканные глаза. Она казалась совсем молоденькой девушкой.
— А вот и мы, плакса-вакса, Бандока, Илонка. Это еще что такое? — шутливо сказал, увидев вбежавших детей. Раскрыл объятия и громко, притворно рассмеялся.
Жена долго возилась с лампой. Погасила спичку и ткнула ее обугленным концом в пепельницу. Потом села и стала растерянно глядеть перед собой.
С деланной беззаботностью он прервал тягостное молчание:
— Ну-с, а как с ужином, хозяюшка?
Удерживая слезы, она встала и медленно вышла в кухню. Молоденькая служанка сердобольно посмотрела на хозяйку.
— Барыня, правда, что и господину механику тоже идти?
— Ох, Мария, не знаю, ничего не знаю. Обе заплакали.
— Папа, готова машина? — спросил Банди, протирая глаза.
— Готов мотор, готова машина. И какая красивая! Высоко подбросил сына в воздух и опустил на пол.
Мальчик со счастливой рожицей бросился к сестренке, они стали возиться и бегать друг за другом.
— Готов мотор, готова машина! Ах, как красиво, ах, как красиво!
Они кружились по комнате. А отец глубоко задумался. Славные прежние времена… Теперь он молчит, молчит ради жены, детей. Погруженный в воспоминания, он пристально смотрел на огонь лампы, потом прерывисто вздохнул и, взглянув на детей, скрыл вздох притворным кашлем. Вышел на кухню. Жена стояла у плиты бледная, подавленная. Он обратился к служанке:
— Мари, не знаешь ли, где Ян? Он еще не вернулся?
— У корчмы, наверное, торчит. Там цыгане играют. Гуляют те, кому завтра уходить.
«Гуляют…» — с горькой иронией думал он о людях. Но неужели это действительно война? Он еще верил в тех организованных столичных рабочих, от которых оторвался. Те, наверное, сейчас не веселятся. И ему стало жутко, что он не среди них.
— Да, гуляют, — говорила девушка. — Жандарм объявил, что корчма будет открыта до утра.
Он уже не слушал наивной болтовни девушки. Вышел на крыльцо.
— Куда ты? — робко спросила жена.
— Я здесь, — как бы подзывая ее, ответил он.
Через несколько минут она вышла на крыльцо и упала ему на грудь.
— Эржике, детка, будь умницей, не показывай детям своего беспокойства.
— Не показывать, что люблю? Не плакать?
— Но ведь ты детей перепугаешь. И потом… — Он остановился, подыскивая слова. — Ведь мы, дорогая, не маленькие. Надо крепиться… Для родины наступает великое время.
Ему самому стало неловко, когда он произнес эту избитую, пустую фразу, но видел, что она подействовала. Его жена была из мещанской семьи и воспитывалась в духе школьного патриотизма.
— Ведь ты венгерка, Эржике, жена венгерца. И если родина зовет, если Венгрия требует этой жертвы… Стало быть… понимаешь…
— Да нет же, нет, нет! — Она судорожно прижималась к его груди лицом, залитым слезами. Ее волосы щекотали ему подбородок. Она дрожала.
На другой день он уложил свой кожаный саквояж, как в прежние времена, когда был холостяком. Несколько пар белья, туалетные принадлежности. Еды решил с собой не брать, считая глупым этот деревенский обычай. За деньги можно все достать. Написал тестю, чтобы он нанял на время молотьбы к машине одного знакомого старика. Яну поручил наблюдать за машиной. Провозился с приготовлениями до обеда.
За обедом долго глядел на жену, на головку Банди, причесанного под Ракоци, на умненькое, тонкое личико Илонки.
Вынул старые фотографии, пересмотрел их. Еще раз перелистал долговую книжку, потом подозвал жену. Ему было странно посвящать эту маленькую женщину в свои дела. Рассказал, кому они должны, кто им должен. Показал очередь на молотьбу. Обещал написать ее брату-гимназисту, чтобы он приехал на время молотьбы.
Около трех часов вышел на многолюдный перрон станции. Был возбужден. Переполненные поезда увозили людей. Он втиснулся в вагон.
Когда начало смеркаться, поезд, уносивший его, грохотал уже далеко, в сатмарских степях. Он знал здесь каждый куст. Сколько раз ездил по этой линии, будучи машинистом! Вечером поезд долго стоял на небольшой станции. Сошел. Захотелось пройтись по шумному перрону. Галька и ракушки хрустели под ногами. Его слегка знобило. Глаза горели. Он чувствовал себя выбитым из колеи. Гладкая, как море, равнина влекла куда-то вдаль.
Он вспомнил о семье, о доме, в котором остались брошенные им трое сирот — жена и дети. Сердце болезненно сжалось. Ему казалось, что с ними поступили несправедливо. Закрыл глаза. Чувство одиночества с новой силой охватило его.