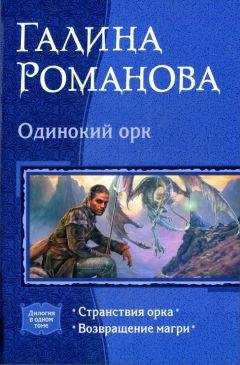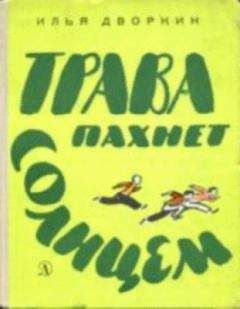Галина Василевская - Прощай, Грушовка!
Он глядит на метрику, точно она свалилась с неба.
— Где взяла?
— В школе.
Увидел в моей руке еще несколько бумаг.
— Покажи.
Просмотрел их. Взял книгу с этажерки, положил в нее метрики, поставил книгу на место. За руку он вывел меня в коридор, осторожно прикрыл дверь.
— Пошли!
— Куда?
— В школу. Покажешь, где взяла.
Мы выбежали на улицу. Ветер гнал по дороге обрывки бумаг, опавшую с деревьев листву. Над головой совсем низко плыли тяжелые темные облака. Казалось, вот-вот хлынет дождь.
— Эх, ты, — журил меня по дороге Витя, — нужно было брать метрики старших ребят, десятиклассников.
— Зачем? Это же не наши!
— Не наши… Какая разница чьи? Документы, и все.
— Ну и что?
Витя разозлился и вдруг выпалил:
— Нам документы нужны, пленных из города выводить. Понимаешь?
Я даже остановилась, недоверчиво посмотрела на Витю.
— Пленных? Их же охраняют! Я сама видела.
Витя помолчал, наверное, колебался, говорить или не говорить.
— В Дроздах находится лагерь для военнопленных, обнесен колючей проволокой. У ворот стоит охрана. Так мы нашли одно место… Поднимем палками проволоку — и пленные выходят. А ты говоришь, ну и что! Нужны хоть какие-нибудь документы.
— Надо было раньше сказать. Я ведь не знала.
— И я не один придумал эту операцию.
Во дворе школы горел костер. Вокруг костра ходил фриц с автоматом. Мы стояли и смотрели, как сгорают школьные документы — метрики и другие бумаги. Наконец фриц заметил нас и прогнал со двора.
Домой шли хмурые. Витя не смотрел в мою сторону.
Я чувствовала себя виноватой и, чтобы как-то загладить свою вину, спросила:
— Ты читал объявления, что висят у магазина? Там про какую-то регистрацию написано?
Витя усмехнулся.
— Мстислав Афанасьевич вчера как ушел на эту регистрацию, так домой и не вернулся. Зайду к ним, может быть, что-нибудь удалось разузнать.
Я поняла, что мешаю ему.
— Что ж, иди, — сказала я.
Когда Витя отошел, я повернула назад, на Грушовскую, в сторону товарной станции.
Может, опять будут гнать пленных, так отдам им хоть лепешку, решила я.
Колонну я увидела издалека. Она была не такая длинная, как вчерашняя. Я подошла поближе, остановилась. Мимо меня проходили пленные. Их пошатывало от страшной усталости. Они шли согнувшись, еле-еле переставляя отекшие ноги.
Я смотрела на них и ломала голову, как незаметно передать лепешку. Я проследила за ближайшим конвоиром и, когда он прошел мимо, сунула лепешку в руку пленного с перевязанной головой. Он быстренько спрятал лепешку в карман. А я повернулась, чтобы идти домой, как вдруг услышала:
— Доченька, доченька моя!
Кричал пленный слабым голосом.
Оглянулась. К кому он обращается? Вокруг никого не было. Я одна стояла на тротуаре.
— Доченька, ты не узнаешь меня? Я ж твой папа!
Я чуть было не сказала, что он ошибся, что мой папа дома, болеет. И тут же вспомнила, как вчера женщина узнала своего мужа и его отпустили. Этот бородатый пленный хочет, чтобы я «узнала» его.
Я бросилась к колонне и закричала на всю улицу:
— Папа! Это мой папа! Отпустите моего папу! — И заплакала. Наверное, от страха: вот сейчас конвой догадается, что пленный не отец мне, и тогда меня убыот. Слезы текли по моему лицу, я никак не могла их умять.
К моему большому удивлению, пленного отпустили. Мы шли с ним по улице обнявшись. Он шатался от слабости, и я тоже еле держалась на ногах. Пленный говорил мне:
— Ну чего ты дрожишь? Ты очень хорошая девочка.
Он все время оглядывался по сторонам, а я думала только об одном: как бы нам поскорее дойти до дому. Если он упадет, мне не поднять его.
В это время я увидела Зинку. Я с ней не встречалась с тех пор, как мы прятались от бомбежки вместе с соседями в нашем сарайчике. Я редко выходила из дома. Что ей сказать, если спросит, кого я веду? Ее не обманешь, она знает папу. У меня даже в висках застучало. А Зинка подходит все ближе, я вижу, как она приветливо улыбается.
— Здравствуйте, — говорит она и останавливается.
— Здравствуй, — отвечаю я и умолкаю, хотя чувствую: нужно что-то сказать, объяснить. — Это брат папы, — наконец выдавливаю я из себя и поспешно добавляю: — Его отпустили.
— Так у вас большая радость, поздравляю.
— Спасибо. Конечно, радость. Папа ничего еще не знает. И мама не знает. Он был в колонне. И конвоир сразу отпустил…
Пленный почувствовал мое волнение. И Зинка, наверно, почувствовала что-то и подозрительно посмотрела на меня, потом на пленного. А может, мне показалось? Мне всегда кажется: все замечают, когда я говорю неправду, но молчат, потому что им стыдно за меня.
— Пойдем, — заторопилась я, — вам отдохнуть нужно. Пока, Зина.
— Будьте здоровы.
Мы побрели в сторону нашего дома, опасаясь встретить еще кого-нибудь на пути.
Мама накормила пленного вареным щавелем и картошкой, нагрела воды на примусе. Пленный совсем обессилел. Мыл его на кухне Витька.
От Витьки мы узнали, что пленного зовут Ваня. Мама сожгла в печи его рваную гимнастерку и галифе, дала Ване чистое белье. Постелила Ване в бабушкином закутке за шкафом. Он только прилег и тут же уснул как убитый.
— Пусть отоспится человек, потом поговорим, — вздохнув, сказал отец. Ему больше всех не терпелось узнать, откуда Ваня родом и как попал в плен. И, переводя разговор на другое, отец спросил: — Почему Афанасьевич не идет ко мне?
— Не вернулся с регистрации.
— Узнать не удалось, где он?
— Пока неизвестно. Может, сегодня что-нибудь узнаем.
От Полозовых Витя принес для Вани одежду и сообщил, что Мстислав Афанасьевич в концлагере, Толя и Славик уже видели его.
Я открыла глаза. В комнате тихо, сплю с бабушкой. Почему с бабушкой? Ага, вспомнила: на бабушкиной кровати за шкафом спит пленный. Радостно забилось сердце: это я спасла его! Но почему у меня на душе так тревожно? Что случилось? Вспомнила. Витя сказал, что Мстислав Афанасьевич в концлагере.
Бабушка заворочалась на кровати, тихо промолвила:
— Спи, внучка. Чем больше спишь, тем меньше есть хочется. Спи.
Чтобы бабушка ни говорила, а вставать пора. Мама просила меня с утра нарвать крапивы. Сейчас встану, возьму мешок, натяну на руки рукавицы и пойду. Нарву крапивы много-много. Мама вымоет ее, нарежет и высушит на подоконнике. Нужно запастись на зиму. Вдруг не успеют прогнать фашистов? Как мы будем жить, что есть будем?
Мама с папой тихо шепчутся, чтобы не разбудить Ивана. Голоса у них встревоженные. Если узнают, что Иван — военнопленный, что я обманом спасла его, всех нас за это по головке не погладят. Лучше не думать об этом. Витя тоже поднялся рано. Он подошел к этажерке, взял книжку, где лежали метрики, и стал перебирать их. Одну метрику сунул в карман, остальные положил на место, в книжку.
— Я скоро вернусь, к ребятам сбегаю, — шепнул он маме.
— Шапку надень. Посмотри, какой дождь, — говорит мама.
Витя все время у Полозовых, мама уже к этому привыкла.
За окном слякоть. Серое небо. Деревья пошатываются от ветра. Зеленые листочки на ветвях дрожат, точно от холода.
Я взяла мамины портняжные ножницы, мешок для крапивы, на левую руку натянула рукавичку, накинула пальто на плечи, чтобы не промокнуть.
— Долго не ходи, ты еще не завтракала.
— Я быстро, мама.
Крапива росла повсюду: стояла зеленой стеной вдоль забора, жалась к фундаментам домов, из-под земли тянулась к свету. Я рвала ее, резала ножницами, обжигая руки. Мне хотелось поскорее вернуться домой. Не только потому, что проголодалась. Иван, наверное, проснулся и рассказывает что-нибудь очень важное, а я не слышу. Ведь я даже не успела разглядеть человека, которого спасла. Мешок отяжелел от мокрой крапивы и от грязи, налипшей к нему, ведь кладешь мешок на сырую от дождя землю. На дороге лужи. Я промочила ноги.
Конечно, Иван уже не спит. Все просыпаются, когда наступает день. Удивляюсь сама себе: как это я догадалась, что он меня окликнул? А если б не догадалась? Что бы с ним было? Иван ослабел. Еле-еле дошел до нашего дома. Куда гнали пленных? Неизвестно. Если далеко, он бы не дошел. И его, как других, могли бы пристрелить. И он бы лежал на дороге, как лежали другие… Даже подумать страшно! Нет, лучше думать про другое. Конечно, он уже проснулся. Открыл глаза и спросил: «Где моя доченька?» Мама ему ответила: «Сейчас придет». Наверно, стоит у окна и ждет меня. Я тоже стою у окна, когда кого-нибудь жду.
А вдруг Зинка догадалась, что это чужой человек? И кому-нибудь шепнула. Может быть, немцы уже пришли к нам, арестовали Ивана и всех наших? Только я одна ничего не знаю и рву эту противную крапиву.