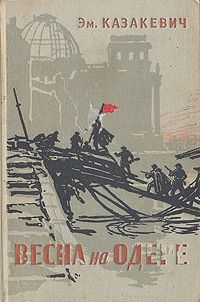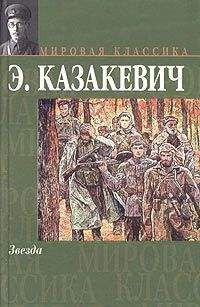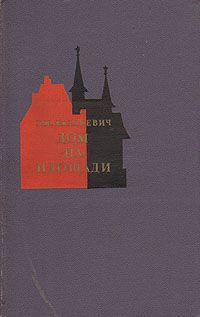Эммануил Казакевич - Весна на Одере
Не думайте, что фашизм является только лишь детищем германского империализма. Это борьба гнилого начала с началом созидательным, борьба прошлого с будущим. Фашизм — это новейшее порождение капитализма вообще, возникшее из его страха перед коммунистическими устремлениями масс. Фашизм — это ударный кулак загнивающего капитализма, его последняя попытка удержаться на поверхности.
Наша победа — доказательство того, что агрессивным силам угнетения и бесправия противостоит могучая, непобедимая реальная сила. Не только справедливая идея, но и реальная сила!
Эту силу создала наша партия, партия Ленина — Сталина, взрастившая и воспитавшая нас. Слава этой партии!
Идея коммунизма вошла в плоть и кровь нашего народа. Она обрела свой дом, — землю, рудники, заводы, лаборатории. На шестой части земного шара возвышается великий советский дом. И мы с вами хозяева этого дома. Хорошо ли мы хозяйничаем? Хорошо, ибо в противном случае мы не очутились бы здесь. Крепок ли этот дом? Силен ли? Да, крепок, силен, иначе мы не сумели бы пройти в таких боях свой путь до фашистской столицы.
Коммунизм стал могучей силой, и теперь есть все основания думать, что он восторжествует на земле.
…Не будем скрывать: мы горды тем, что предсказания гениальных умов о великом будущем России оправдались, что в нынешнее время все самое передовое говорит на русском языке, языке Ленина и Сталина, Пушкина, Белинского и Толстого.
…Строительство коммунизма после победы будет продолжаться с удесятеренной силой. Преимущества нашего строя еще удивят весь мир. Порукой в этом мы с вами, воспитанники партии, солдаты Сталина…
Жестом руки член Военного Совета приостановил начавшуюся овацию и закончил так:
— Разрешите мне поделиться с вами военной тайной. Наступление на Берлин начнется завтра.
Эти слова вызвали бурю. Раздались громкие возгласы восторга. Бешено хлопали жесткие солдатские ладони. Люди, идущие завтра, быть может, на смерть, приветствовали боевой приказ как выражение величайшей мудрости и высочайшего смысла.
Полковник Плотников произнес дрогнувшим голосом:
— Ввиду предстоящего наступления объявляю совещание закрытым.
Сизокрылов несколько мгновений смотрел в окно на солдат, уже строившихся в ряды.
— Начинается последнее сражение, — сказал он. — Завтра вы услышите артподготовку, равной которой еще не знала история войн. По приказанию товарища Сталина здесь сосредоточены небывалые массы техники, — он пожал руку Плотникову: — Желаю успеха. Обращение Военного Совета к войскам вы получите сегодня. Ну, что еще? — он повторил: — Желаю успеха!
Он пошел к своей машине. Солдаты из его охраны торопливо вскочили на бронетранспортер. Машины вскоре скрылись в лесу.
IX
Лубенцов чуть не позабыл о своем обещании, данном Чохову. Когда член Военного Совета уехал, гвардии майор вспомнил о лежащем в полевой сумке плане Берлина.
Он пошел искать старшего сержанта Сливенко, которого хорошо помнил в лицо еще со шнайдемюльских времен.
Сливенко в это время дожидался заседания дивизионной парткомиссии. Солдат его роты — Годунова, Семиглава и Гогоберидзе — сегодня должны были принять в партию.
Они уже прибыли и сидели в тени, под густой елкой. Рядом расположились солдаты из других рот, явившиеся для этой же цели.
Все трое были взволнованы. Когда приехал генерал Сизокрылов, они очень встревожились: ох, неужели и член Военного Совета будет присутствовать при приеме в партию? Волновались они потому, что не привыкли публично выступать, а тут придется — Сливенко предупреждал их об этом — рассказать свою биографию, а может быть, отвечать на политические вопросы.
Как ни странно, но больше всех волновался Семиглав, хотя в роте он считался лучшим оратором и в политических вопросах разбирался изрядно. Но и Гогоберидзе был не спокоен, тем более, что даже бравый, хитрый и ничего не боявшийся старшина — и тот подозрительно покашливал, вставал, снова садился, вдруг вздумал угощать их консервами, а сам не ел, хотя в еде был силён.
Наконец появился Сливенко и предупредил, что заседание вот-вот начнется.
Здесь, возле елок, и нашел парторга гвардии майор. Он передал ему для Чохова план города Берлина масштаба 1: 10 000.
В другое время Лубенцов не отказался бы от удовольствия побеседовать с этим толковым и умным сержантом, который ему очень нравился. Но сейчас было не до разговоров, и гвардии майор поспешил к ожидавшему его Плотникову, с тем чтобы поскорее переправиться на плацдарм.
Сливенко же со своей тройкой пошел к охотничьему домику, где уже собрались члены партийной комиссии.
Хорошо еще, что страхи по поводу присутствия члена Военного Совета оказались напрасными: генерал Сизокрылов уехал. Вокруг стола сидели незнакомые офицеры, пять человек: один майор и четыре капитана. У председательствующего майора глаза были ласковые, в морщинках, хотя и довольно острые и немного даже насмешливые.
Сливенко волновался почти так же, как и его люди. Он их долго и не спеша готовил к вступлению в партию. В минуты затишья читал он им устав партии, речи и приказы Сталина, устраивал придирчивые проверки и следил за ними дружески, но неотступно. Была у него, как он говорил, «думка» сделать всю роту коммунистической. Правда, прибытие пополнения нарушило его планы, но тут он склонялся перед военной необходимостью.
Во всяком случае, заседание парткомиссии было и для него серьезным испытанием. Он радовался, что три его товарища будут приняты сегодня, накануне наступления, в партию большевиков. Ведь работа парторга в условиях переднего края связана с особыми трудностями. Это — не то, что в шахте, где Сливенко работал парторгом смены. Там народ был постоянный, а здесь…
Он вспомнил о двух Ивановых — солдате и сержанте, — которых готовил в партию еще перед наступлением на Варшаву. Это были отличные люди, но оба погибли при прорыве.
Сливенко насторожился, услышав слова майора:
— Следующий — ефрейтор Семиглав.
Семиглав вошел.
Биография его была так умилительно коротка, что вызвала сочувственные улыбки присутствующих.
— Я родился в 1924 году, — сказал он, — в семье слесаря, в городе Туле. В 1939 году я закончил семилетку, оттуда пошел на завод, где работал слесарем. В 1944 году был призван в Красную Армию. В комсомоле с 1939 года.
Он изо всех сил пытался добавить еще что-нибудь, но ничего не мог больше вспомнить. О его наградах — двух медалях — говорилось в анкете, зачитанной раньше, да и медали эти висели на груди. То были не ордена, по внешнему виду которых нельзя определить, за что они даны, — на медалях было красным по белому написано, за что: «За отвагу».
Семиглаву задали несколько вопросов, на которые он ответил, к удовольствию Сливенко, правильно и хорошо.
Потом Семиглав задумался. Он не знал, стоит ли рассказывать или не стоит об его единственном военном прегрешении. Он в прошлом году потерял противогаз. Солдаты рыли себе землянки, и он положил противогаз на пенек. Противогаз исчез. Правда, этой же ночью их бросили в бой, о противогазе все забыли, и ему удалось достать другой — нехорошо, конечно, но он снял другой противогаз с убитого.
Проступок не ахти какой, и Семиглава никогда не мучила совесть по этому поводу, но здесь, в большой комнате, наполненной партийцами, под внимательным взглядом председателя, прошлогодняя история с противогазом показалась Семиглаву не такой уж маловажной и очень некрасивой. Более того: ему показалось, что эти люди, и особенно майор — председатель догадываются — нет, даже в точности знают — о его проступке и потому-то поглядывают на него так пытливо.
Он густо покраснел и рассказал об этом случае.
— Ну, что ж, товарищ Семиглав, — проговорил председатель, — можете пока идти.
Семиглав вышел и сдавленным голосом сказал Гогоберидзе:
— Заходи, тебя вызывают.
А сам уселся на траву, страшно расстроенный, в полной уверенности, что его в партию не приняли.
Гогоберидзе вошел в комнату. Сливенко ободряюще кивнул ему.
Председатель, глядя на Гогоберидзе, на его широкую грудь, увешанную орденами и медалями, подумал о том, как странно, что люди, не робеющие перед лицом смерти, герои, наверняка даже герои, так смущаются перед ним, секретарем парткомиссии, низеньким, худеньким, невоенным человеком.
Это их смущение было особенно приятно майору: то проявлялось в людях чувство ответственности перед собственной совестью, перед экзаменом на высшее звание — передового человека своего времени. И хорошо, думал майор, что они чувствуют, что можно сдать экзамен на героя, на прекрасного солдата, на искусного командира, но это еще далеко не значит, что ты сдал экзамен на человека передового, на народного вожака. И, наконец, отрадно, что люди понимают, что состоять в партии — это и значит быть лучшим среди своих товарищей; быть принятым в ее ряды означает, что твои качества становятся общепризнанными.