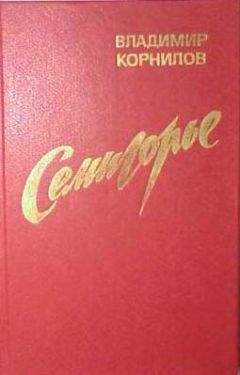Владимир Корнилов - Годины
— Передохнем чуток на этой вот ладони и отбудем.
С хозяйской обстоятельностью он пристроился на корточках, спиной к стене, здоровой рукой долго подсовывал под себя полы шинели, видом своим показывая, что теперь ему нет дела до начальников.
Алеша не чувствовал неприязни к солдату; напротив, в его хозяйской ухватке, в крестьянском обиходном словечке «ладонь» было что-то от семигорского мужика. Спросил:
— С Волги, что ли?..
— Вологодский!..
— Ну! Почти земляки, — улыбнулся Алеша; в ответ на его улыбку подобрело и неопрятное от небритости лицо солдата. Уже не скрывая того, что его томило, он жалобно попросил:
— Слушай, сынок, махорочки на закрутку не сыщешь? Со вчерашнего не куривши!..
С наивностью некурящего Алеша предложил:
— Может, лучше перекусить?
— Нет, лучше махорочки, — сказал солдат и поднес к губам дрожащие в нетерпении пальцы.
Алеша пошел в землянку достать из аптечного ящичка бумажку с махоркой, завернутую им, как лекарственный порошок. Махорку, небольшой запас сухарей, сала, особенно водку, которую каждому выдавали в боях, он всегда хранил в этом своем ящичке и берег. Не для себя. Все это для него не имело ценности, разве что сухари и сало на трудный случай. Но когда к нему в землянку вваливались знакомые офицеры или симпатичные ему солдаты в грязных шинелях, возбужденные близостью важного дела, он с удовольствием устраивал праздник для этих шумных людей. Тая в себе радость, он молча следил, как они в жадности курили его махорку, как, заглушая тревогу, нарочито резко стукались жестяными кружками, перед тем как, запрокинув головы, выпить сбереженные для них обжигающие граммы. Такое же чувство было у него сейчас и к пожилому солдату. Спеша, он выдвинул из-под нар зеленый свой ящик, но едва откинул крышку, как с тупым звуком лопнул воздух, противная всему живому сила содрогнула землю. Оглушенный, с неостановимым звоном в ушах, задыхаясь от толовой копоти, выбитой из печурки, Алеша с трудом поднялся, соображая: взорвался тол или гранаты у входа? Пошатываясь, вылез на волю и все понял: посланный с немецкой стороны снаряд разорвался на «ладони», у ног пожилого солдата. Он и молодой — оба лежали тут же, отпав друг от друга, один на правом боку, другой на левом. Парнишечка прижимал к груди перебинтованную кисть, словно она все еще болела, пожилой лежал с откинутой рукой, пальцы были раздвинуты, и Алеша не мог отрешиться от ощущения, что пожилой солдат все еще просит покурить. В ожидании нового снаряда Алеша отступил в узкий проход землянки, в еще плавающий там толовый дым. Зная, что от опасности он все равно не ушел, пристроился на нарах, сидел какое-то время неподвижно в неприятном ожидании удара, думал: не на дымок ли печурки послал немец этот дурной снаряд? И хотя это могло быть правдой, он все-таки, одолевая скованность, запалил забитый взрывом огонь; упрямо, с усмешливым вызовом кому-то, подложил в печурку тол, раздул огонь до жара.
Глядя на повеселевшее пламя, прислушался — показалось, он слышит сквозь звон в ушах приближающийся постук быстрых шагов. С заколотившимся сердцем поднялся, вышел. По оврагу к передовой шли солдаты, каждый держал на плече по ящику с минами, стук ботинок по стылой земле был сух и тяжел.
Лены не было ни в овраге, ни на дороге, уходящей в поле; но по растущему волнению он чувствовал, что Лена к нему идет, она где-то уже близко. Он спрыгнул на площадку, натянул на лежащих там солдат край посеченного осколками палаточного брезента, чтобы Лена не увидела случившуюся смерть, прислонился к мерзлой земле у входа в землянку и стал ждать. Он ждал и молил судьбу, чтобы Лена дошла, добежала до его землянки, чтобы ни люди, ни война не развели их дороги.
2Алеша брал из цинковки желтые маслянистые куски тола, подкидывал в печурку, старался не смотреть на Лену. Огонь потрескивал, освещал его лицо, он был на виду, и Лена с любопытством разглядывала его; он чувствовал неотрывный ее взгляд, смущался, раздражался, напрягал лицо, стискивал желваки скул, — между ними стояло стесняющее их молчание.
— А ты погрубел, Алеша! — Тихий голос Лены донесся как будто издалека, сожалеющую нотку в ее голосе он уловил, поспешил разуверить:
— Да нет, все такой же! И в любви — мальчишка! — зачем-то добавил он и застыдился своего откровения; он сказал об этом тоже от неловкости, чтобы хоть как-то оправдать свою робость.
Лена пристально смотрела из сумеречного угла, в ее неподвижных глазах прожигающими точками светилось отраженное пламя.
— Среди девчонок-сестричек и — мальчишка? — Она недоверчиво усмехнулась.
— Представь себе! Тебя это удивляет?
— Пугает! Твоей робостью заробела… У тебя нет хоть немного спирта? Ты ведь медик…
Алеша, напрягаясь уже другим, лихорадящим напряжением, достал из ящика флягу.
— Только не спирт — водка.
Не показывая удивления, скрывая в небрежности движений оторопь, он налил в кружку, и, кажется, много, подал в протянутую руку Лены.
— Сам глотни! — сказала Лена.
Алеша поморщился.
— Не пью я, Лен…
— Ну, знаешь ли!.. Глотни. Не могу я одна!..
Он слышал, как выпила она двумя большими глотками. Стыдясь своей интеллигентности, ненужной, глупой сейчас, он тоже глотнул, обжигая горло, прямо из фляжки, протянул Лене на кончике ножа кусочек сала. Лена отвела его руку, потянулась сладко, как будто раскрывая себя.
— А теперь, Лешенька, целуй! Хочу! Слышишь?!
…«Бог мой! — ошеломленно думал Алеша, ощущая странную пустоту в себе. — Неужели это и есть тайна? То, что смущало, звало, не давало покоя, было мечтой?! Что казалось дороже жизни?!»
Алеша был подавлен. Радости не было. Было чувство потери. И почти физического стыда. Он вспомнил Рыжую Феньку, вспомнил, как шел к ней ради этого, стыдного и бессмысленного, и на душе стало еще хуже. Фенька остановила его у своих добрых рук, каким-то бабьим чутьем поняла, как покаянно будет ему от безлюбовной близости. Лена не думала о том. Просто сделала и его заставила сделать то, чего хотелось ей.
Алеша умер бы, если бы Лена вдруг узнала о том, о чем сейчас он думал. То, что случилось, было при нем, все он должен был пережить в себе без звука, без слова.
Воздух в землянке остыл. От захолодевшей печурки наносит запахом золы и копоти. До невозможности узки и неудобны накрытые ватным стеганым мешком нары из кривых жердей, к которым они с Леной придавлены двумя шинелями и неловким, затаенным молчанием. Он не может даже вытащить руку, затекшую под тяжестью чужого тела. Так нехорошо на душе и вокруг, что, прислушиваясь к бьющим землю разрывам на передовой, Алеша с недобрым к себе и Лене чувством думает: «У входа бы рвануло, что ли!..»
Лена как будто затаилась, он не слышал даже ее дыхания, он был уверен, что Лене так же стыдно, как ему. Но Лена в полутьме нашла его свободную, лежащую поверх шинели руку, потянула к себе, почувствовала безответность, вздохнула.
— Не обижайся, Алеша. Я ведь тебя, дурня, еще в школе любила. А тут на фронте встретила!
Сказала она все это чистым, ничуть не виноватым голосом, погладила его ладонь теплой мягкой ладонью. Алеша смутился другим смущением; тронутый ее вздохом, ее ласковым старанием, боясь обидеть ее своей безответностью, погладил пальцами ее пальцы, слабо сжал.
Лена, как будто успокоенная ответной его лаской, затихла. Она, наверно, знала что-то, чего Алеша еще не знал. Когда он успокоился и затомился собственным молчанием, она осторожными движениями рук повернула его к себе, губами нашла его губы. Он понимал: после того, что случилось, Лена обрела какие-то свои права на него, и сдерживал дыхание, не отводил губ.
— Поцелуй! Ну, поцелуй же! — шептала Лена. И Алеша, вопреки всему, о чем только что думал, покорился ее настойчивому шепоту.
…Снова лежали они рядом, на тех же узких нарах, под теми же тяжелыми шинелями, так же пуста и холодна была железная печурка, но мир под неудобными тяжелыми шинелями как будто стал другим. Какое-то незнаемое прежде согласие зародилось в этом крохотном — на двоих — мирке, какая-то ласковая предупредительность, какое-то бережное внимание даже к дыханию друг друга. Через ошеломивший его физический стыд Лена приблизилась к нему, обволокла ласковым теплом любящей женщины, и не было для него сейчас необходимее того, что было Леной.
— Лен, закутайся. Я разожгу печку.
— Не надо, милый!
— Хочу добавить чуточку тепла.
— Добавишь — и что-то отнимешь от того, что есть!
— Разве может так быть? Ведь тепло к теплу, хорошее к хорошему?
— Я верю, Лешенька, в то, что есть. Я боюсь верить в то, что будет.
— Но почему?
— Этому научила меня война, Лешенька…
Он все-таки растопил холодную печурку: заботливо укутал Лену и запалил огонь. На неровных жердях низкого потолочного перекрытия теперь как будто раскачивались темно-красные огненные отблески. Лена высвободила из-под шинели руку, положила под голову, с напряженным любопытством наблюдала мерцающие на жердях черно-красные блики.