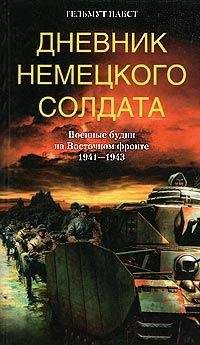Гельмут Бон - Перед вратами жизни. В советском лагере для военнопленных. 1944—1947
Мы абсолютно чужие и друг другу.
Каждый в отдельности в душе чужд даже самому себе.
— Вчера я прочитал в журнале «Иностранная литература», что Москва отвергает пацифизм. Например, роман Ремарка «На Западном фронте без перемен».
Я должен сказать хоть что-то. Только не молчать сейчас, когда, возможно, уже издан приказ, что военнопленный Гельмут Бон признан недостойным обучаться в антифашистской школе.
Нет, я не начинаю задумываться только теперь, став курсантом. Мартин и я успели уже немало повидать в жизни. Поэтому я говорю:
— Я еще помню, как мы переживали и спорили в старших классах школы, году так в 1930-м, когда вышел этот роман. Эта потрясающая Сцена с сапогами. Ты помнишь? Какой-то солдат находится при последнем издыхании, получив смертельное ранение. Но его боевые товарищи видят, что у него на ногах хорошие сапоги. И, не дожидаясь, пока он умрет, стягивают с него эти сапоги. «Какая же подлость!» — возмущались мы тогда. Правда, мы и тогда уже не думали, что война — это забава. Мы считали, что война — это героический эпос.
— Вернул тебе Вилли Кайзер тот номер журнала «Новое время», который он брал почитать? — переводит разговор на другую, более безопасную тему Мартин.
Дело в том, что рядом с нами шагает курсант из основного состава школы. Ему незачем слышать, что мы обсуждаем что-то из нашей прежней жизни. Когда он замечает, что мы беседуем о московском журнале, его интерес к нам сразу пропадает, и он проходит дальше в голову колонны.
— Возвращаясь к прежней теме! — снова начинаю я. — Я помню, какая буря негодования поднялась в националистических кругах после Первой мировой войны, когда в одной театральной пьесе в конце действия выметали со сцены стальной шлем — в кучу мусора.
Что сказали бы эти милитаристы из организации «Стальной шлем», если бы они пришли в наш 41-й лагерь! Когда там пленные вычищали уборную, то использовали стальную каску в качестве черпака.
И никто не чувствовал при этом никаких угрызений совести. Только в художественной литературе подобные действия подвергаются осуждению как недопустимые!
— Но между стальным шлемом, выброшенным в театральной пьесе в кучу мусора, и каской, использованной в качестве черпака для нечистот в лагере для военнопленных, существует, однако, большая разница, — поправляет меня Мартин. — В театральной пьесе в кучу мусора полетел стальной шлем, а вместе с ним и весь милитаризм. Пленные же не собирались устраивать политическую демонстрацию, когда использовали стальную каску в качестве черпака для дерьма.
— Это верно, — говорю я с чувством раздражения, так как Мартин не развил мою мысль о том, что плен намного унизительнее. Но сегодня утром я не собирался вступать в серьезную дискуссию. Мне приятно слышать хруст снега под ногами идущего рядом со мной друга.
Тем не менее мне приходится вступать в спор.
— То, что ни один пленный, используя стальную каску в качестве черпака для уборной, ни о чем при этом не думает, свидетельствует лишь о том, насколько мы оторваны от прошлой жизни. Мы не ценим больше не только стальную каску как символ солдатской доблести. Мы не можем по достоинству оценить и значение смерти. Ты думаешь, пленные в городском лагере думали о чем-нибудь высоком, когда мочились на глазницы черепов в уборной? Ты вдумайся только: братская могила у стен собора используется в качестве уборной! Вот готовый сюжет пьесы для наших драматургов!
— Каждому пленному нужны все его силы, чтобы сохранить свою жизнь. Материальное бытие на своей низшей ступени не знает, что такое почтение и символы. Амебы не имеют формы, — замечает Мартин.
— Если мы однажды вернемся домой, и они нас спросят, что же было такого страшного в плену, прежде чем ответить, мы сами должны будем основательно подумать. Одни захотят показать нам в театральной пьесе военнопленного, который испытывает огромные душевные муки из-за того, что ему приходится использовать свою каску, в которой он принимал участие в сотне сражений и прошагал пол-Европы, в качестве черпака для уборной. Другие изобразят, как находящийся в плену священник испытывает душевные муки, так как он вынужден красть воск для алтарных свечей. А ведь мы с тобой знаем, что наш добрый Генрих не испытывал при этом ни малейших угрызений совести!
А кто-то захочет убедить нас в том, что самым большим горем для нас была неукрашенная могила погибшего боевого товарища: чтите своих павших!
Но, в конце концов, все сведется к тому, что мир скажет: в России умерло столько-то миллионов военнопленных. (Преувеличение. Всего в советском плену умерло 518 520 чел. из общего числа учтенных в лагерях НКВД 3 286 206 чел. (в том числе 2 733 739 вермахт (из них 2 388 443 немцев) и 752 467 чел. его союзники. К этому надо добавить 57 тыс., которые умерли, не достигнув лагерей, в пути. — Ред.) Поэтому это и было так плохо!
Но и это тоже только одна сторона медали.
Но даже если бы в русском плену никто не умер, это тоже было бы страшно. Возможно, даже еще хуже. Так как для многих имело бы силу следующее утверждение: «Мы не можем больше распоряжаться своей жизнью, но никто не может лишить нас права распорядиться своей смертью!» Многие умерли, умерли прежде всего в душе, так как для них жизнь не имела больше смысла и никогда больше не будет иметь!
Я говорю и говорю, не прерываясь. А Мартин слушает, как может слушать только близкий друг. Да, теперь я знаю совершенно точно, что мне осталось совсем недолго быть вместе с Мартином. Поэтому сейчас я хочу сказать ему все, что мне кажется важным.
— В этом плену побои еще не самое плохое. Меня только один раз обработали прикладом. Когда русский бил пленного, часто это происходило только потому, что он приходил в ярость, заметив, что пленный испытывает перед ним страх. Надо вести себя с русскими так, чтобы они почувствовали, что их не боятся!
Самое скверное в этом плену — это голод. Это медленное угасание. Эта постоянная усталость, которая с каждым месяцем становится все сильнее и сильнее и которую снова и снова гонишь от себя, чтобы выполнить норму выработки.
А потом ко всему прочему добавляется ужас доносительства. Это вскармливание таких подонков, как этот Кубин!
И самое плохое — это осознание того, что зараза большевизма свирепствует не только в лагерной зоне, что вся Россия представляет собой трудовой лагерь НКВД. Да, я просто с ума схожу, когда слышу, как они в Германии говорят сегодня о зонах. Как в лагере: зоны!
Я на минуту замолкаю, давая Мартину время осмыслить услышанное. Я часто повторяюсь, но Мартин позволяет мне спокойно выговориться.
Видимо, он думает, что это пойдет мне на пользу. Конечно, плен учит самообладанию и молчаливости, но наступает день, когда тебе просто необходимо выговориться — до конца и не считаясь ни с чем.
А дорога как раз к этому и располагает. Прямая как стрела, она ведет через густой зимний лес. Потом мы выходим к полотну узкоколейки.
Под большим навесом лежат сотни мешков с мукой. Снег и дождь уже испортили часть мешков, лежащих у самого края.
На каждые санки грузят по пять мешков, что составляет около двухсот пятидесяти килограммов. Обратный путь дается нам тяжелее. Но когда санки трогаются с места и четыре человека одновременно тянут за веревку, это еще терпимо.
— Видишь ли, Мартин, — снова начинаю я, — больше нет смысла за что-либо умирать, поэтому не стоит и жить!
— Я не знаю! — с задумчивым видом говорит Мартин. — Я не знаю, не является ли это снова всего лишь пустой фразой!
Сейчас мы везем санки вчетвером. Двое других пленных тоже из нашего 41-го лагеря. Поэтому мы можем относительно спокойно поговорить на отвлеченные темы, не связанные с обучением в антифашистской школе.
— Откуда такое стремление к немедленной смерти?! — включается в разговор наш учитель. Он тоже много читал в своей жизни, поэтому говорит: — Главное — вести приличную жизнь, тогда логическим концом этого станет достойная смерть!
— Так мы вообще никогда не сдвинемся с места! — говорю я, имея в виду, что люди должны же, наконец, однажды стать увереннее, лучше, мудрее и счастливее.
— Тебя это, конечно, не устраивает! — говорит Мартин, и он прав.
Меня не устраивает, что люди не становятся лучше.
— Оставь его в покое, Гельмут! — подтрунивает над учителем Мартин. — Ты же всегда был за прогресс. Тебя они наверняка приняли в школу.
— Ну, еще бы! — говорю я, чтобы последнее слово осталось за мной.
И мы продолжаем тянуть нагруженные санки, но уже молча. Эти вечные походы с санками постепенно начинают надоедать.
Мы уже снова идем мимо одинокой избушки. Но женщины в окне больше не видно. И собака с бурой шелковистой шерстью тоже куда-то пропала.
Мы обгоняем колонну пленных. Венгры. На некоторых под телогрейками видна их коричневая военная форма. Это венгерские офицеры, которые возвращаются с лесоповала.