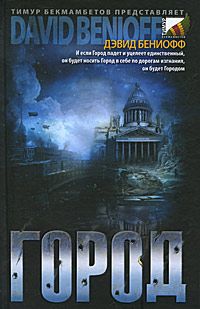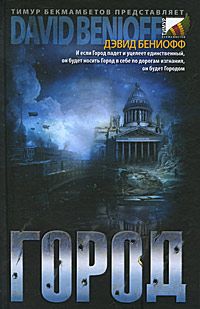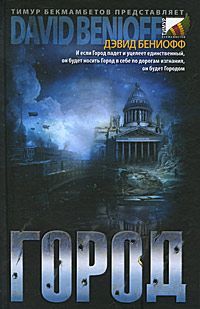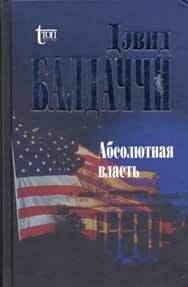Николай Чуковский - Рассказы
— «Боевой буксир», — прочла она громко. Так называлась наша газета.
— Это что же, газета водников? — спросила она.
— Да, — сказал я.
— «Срочный ремонт судов — залог победы», — прочла она заголовок передовой, которую написал я. — Они сейчас ремонтируют свои суда?
— Да, — сказал я. — Должны ремонтировать.
— А они ремонтируют?
— Как это ни удивительно, ремонтируют.
— Почему удивительно?
— Потому что отремонтировать судно еще труднее, чем выпустить газету.
— Току нет, — проговорил Цветков. — А вертеть вручную сил нет.
В типографию вошел Сумароков — преображенный. Больше месяца не видел я его таким. Лицо только что умыто, волосы расчесаны и блестят, ботинки начищены, ватник расстегнут, и под ним — матросская тельняшка. Он даже почти не хромал, — казалось, он только так, случайно, оступается.
— Никогда не видела, как печатают газеты, — сказала Ася. — Интересно поглядеть.
И взялась за ручку колеса. Колесо поддалось с трудом, и тонкая кожа у нее на лице покраснела от усилия. Спицы поползли медленно-медленно.
— Тяжело, — сказал Сумароков. — Давайте я вам помогу.
Он стал рядом с нею и тоже взялся за ручку. Они вдвоем вертели колесо, улыбаясь от удовольствия и натуги.
— А где же бумага? — спросила она. — Как это печатают?
Цветков встал на свое место, лист прокатился по валу и, отпечатанный, выпал. Она засмеялась. Еще один лист, еще один.
— Вы устали, — сказал Сумароков с таким видом, словно уж он никак устать не может. — Давайте я один.
Она покачала головой.
— Вдвоем совсем не трудно, — сказала она. — Чем быстрее вертится колесо, тем легче оно идет. Раскрутим его вовсю.
Спицы бегали все быстрей и быстрей, и все быстрей и быстрей становились движения Цветкова, вставлявшего чистые листы. И действительно, чем быстрее вертелось колесо, тем меньше нужно было усилий, чтобы вертеть его.
Это было открытие необычайной важности.
— Я сам, — решительно сказал Сумароков и отпихнул ее от ручки.
Она отступила шага на два, а он, чувствуя, что она глядит на него, с сосредоточенным и важным лицом подталкивал ручку. Теперь он почти даже не нагибался, ручка подлетала к нему, и он ее слегка толкал.
Тогда я встал с койки.
— Который лист? — спросил я Цветкова.
— Сто девятнадцатый, — сказал Цветков. — Сто двадцатый. Сто двадцать первый.
— Отойди! — крикнул я Сумарокову и поспешно встал на его место, чтобы не дать колесу замедлить ход.
Я небрежно швырял ручку резкими движениями ладоней. Машина тяжело грохотала. Листы вылетали.
— Если бы настоящее питание, мы бы еще не так завертели, — проговорил Сумароков у меня за спиной. — А то того и гляди помрем.
— Пока будет выходить газета, не помрете, — сказала Ася.
7Но газета скоро перестала выходить. И умер Сумароков. И умерло еще много-много людей. И в нашем шестиэтажном промерзлом доме во всех квартирах лежали мертвые, которых некому было похоронить.
Цветкова от меня затребовали в какую-то военную типографию, он ушел со своим чемоданчиком в метельный день, и я больше никогда его не видел. Я остался в типографии один: нельзя же бросить машину, шрифты, бумагу. У меня, разумеется, было начальство, и от начальства я ждал указаний, что делать дальше. Но связаться с начальством по телефону я не мог — телефоны в городе не работали. Да и зачем? Ведь начальству известно и положение типографии, и мое. Нужно только немного подождать…
Я теперь жил в комнатенке Сумарокова, лежал на его койке. Там были целы стекла в окне, там тоже стояла жестяная печурка, которую можно было топить старыми экземплярами нашей газеты и досками шкафов. Но установились сильные морозы, и печурка моя мало помогала. Дни и ночи лежал я на койке, в ватнике, в валенках, укрытый двумя одеялами — своим и Сумарокова. Окно закрывал большой лист плотной синей бумаги — для затемнения; по утрам его нужно было снимать, по вечерам укреплять на окне снова. В первые дни я его и снимал и укреплял, но потом мне стало скучно и трудно возиться с ним, я перестал его снимать по утрам, и днем у меня было так же темно, как ночью.
Выходил я только в булочную, за хлебом, — раз в два дня. На улице блеск снега ослеплял меня, морозный ветер не давал дышать. Почти не видящий, почти не дышащий, я шел по узкой извилистой тропке между огромными сугробами, дымившимися на ветру. В булочной мне давали промерзлый кубик хлеба — мою порцию на два дня. Многие, получив хлеб, съедали его тут же, в булочной. Но я так не поступал. Я прятал хлеб под ватник, поближе к телу, и шел домой. На обратном пути у меня кружилась голова, все заволакивало туманом; и чувство это не было неприятным. Напротив, в искушении лечь в снег и больше не двигаться было что-то сладкое, заманчивое. Каждый раз по пути я видел мертвых, уже почти занесенных снегом, и участь их не казалась мне страшной. «Нет, все-таки я раньше съем свой хлеб», — говорил я себе и продолжал идти. Возвратясь, я ложился на койку, закрывался с головой двумя одеялами и там, в темноте, отщипывал от хлеба маленькие кусочки и клал в рот. Каждый кусочек я долго держал во рту, прежде чем проглотить. Потом засыпал.
Впрочем, я не знаю, спал ли я; в той тишине, которая меня окружала, трудно было понять, спал я или не спал. Весь город был погружен в мертвую тишину, как на дно моря. Не было ни трамваев, ни автомобилей, ни голосов на улицах; с наступлением зимы воздушные налеты прекратились, и замолчали наши зенитки. Немцы, окружив город со всех сторон, не хотели, казалось, тратить на него больше никаких усилий и просто ждали, когда он вымрет и вымерзнет. Ни один звук не долетал до моей комнаты, и в мертвой этой тишине мне постоянно чудилось, что я куда-то проваливаюсь вместе со своей койкой — все глубже, и глубже, и глубже. Весь мир с его светом, людьми, теплом остался где-то бесконечно далеко, наверху, а я все погружаюсь, все опускаюсь, и нет конца этому опусканию, потому что подо мною нет дна.
Иногда сознание прояснялось, и я понимал, что умираю. Тогда я думал, что нужно встать, поискать щепок, разжечь печурку, принести воды. Но мысль о необходимости двигаться казалась такой ужасной, что я думал о смерти без всякого страха, и уже даже ждал ее, и погружался все глубже и глубже.
8И вдруг в этой бездонной безвыходной глубине я услышал сверху громкий звонкий голос:
— Вы живой, живой! Очнитесь!
Я перестал опускаться. Меня понесло вверх, вверх, вверх, я почувствовал, что одеяло сдернуто с моего лица и что свет кругом. Синий лист был снят с окна, и за расписанным морозными цветами стеклом сверкал день. Ася стояла надо мной и ликующим голосом восклицала:
— Вы — живой! Ангелина Ивановна говорила, что в типографии никого нет, что вы лежите мертвый, а я пришла, потрогала — вы живой! Сейчас, сейчас!.. Я сейчас все устрою…
Я смотрел на нее и чувствовал, что улыбаюсь. Ну конечно, я живой! Она так торжествовала, так радовалась, найдя меня живым, что оказаться мертвым было бы просто стыдно. Я смотрел на нее, улыбался и тоже радовался, что она живая. Она изменилась: те страшные знаки голодного постарения еще резче легли на ее детское лицо. Но она двигалась, говорила, радовалась. Мы оба были живы!
— Сейчас, сейчас!.. — повторяла она и уже разжигала мою печурку.
Я думал, что в типографии больше нечего жечь, кроме наборных касс, но она, обшарив углы, нашла чулан, куда Сумароков и Цветков когда-то натаскали разных досок, щепок, кусков угля. Печурка затрещала вовсю, и через несколько минут на черной коленчатой трубе выступили красные пятна.
— Надо принести воды, — сказала она, схватила большой медный чайник и выскользнула из комнаты.
Едва она вышла, мне стало страшно, что она не вернется. На ногах у нее были валенки, и ходила она бесшумно; звук шагов ее исчез, чуть за ней закрылась дверь. «Вернись, девочка-жизнь, — думал я, поджидая ее. — Девочка-жизнь, вернись!» Я знал, что в доме есть всего один кран, из которого еще капала вода, — в подвале, в бомбоубежище. Я представил себе, как она бежит с моим чайником вниз по ступенькам, перебегает через двор, спускается в подвал и там стоит в темноте перед краном. Конечно, надо много времени, чтобы по капле набрать воды в такой большой чайник… И все же почему она не идет? Не случилось ли с ней чего-нибудь? «Вернись, девочка-жизнь!»
И когда я уже почти перестал ждать, девочка-жизнь вернулась.
9Увидев, как тяжел этот чайник с водой, как он оттягивает ей руку, я смутился; мне стало стыдно валяться. Она ведь получает ровно столько хлеба, сколько я, и ей ничуть не легче, чем мне. Я скинул с себя оба одеяла, опустил ноги на пол и встал.
— Ну вот, я говорила! Вы можете стоять!
— Конечно, я могу стоять! — сказал я бодро и, чтобы показать ей, как я еще крепок, стал раскалывать ножом доску и швырять щепки в печурку.