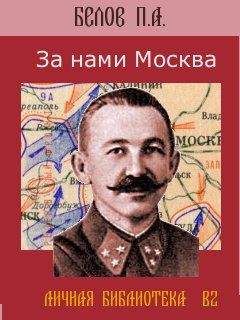Георгий Зангезуров - У стен Москвы
— Ну давай, что же ты? — предложил Кожин.
— Пей, я сперва поесть хочу. Нельзя же на голодный желудок.
— Нельзя-я-я… Эх вы, по-ли-тики! Думаешь, я не разгадал твой фокус?.. Вот, мол, мой ход конем. Умный поймет, а дурак… Только я так, брат, считаю. С дураков меньше спросу. И поэтому будь здоров! — И Кожиц залпом осушил стакан.
Воронов налил еще.
— Пей, — спокойно, как ни в чем не бывало, снова предложил он.
Кожин посоловевшими глазами смотрел на комиссара.
— Ты что, издеваешься надо мной?
— А почему бы и не поиздеваться над слабым человеком? У тебя же нет ни воли, ни характера.
— Ну, знаешь…
— Что, не согласен? Придется согласиться. Не успела надвинуться туча, а ты уже решил, что грянула гроза, и вместо того чтобы защищаться, бороться, ты поднял руки вверх, без боя сдался. И пусть, мол, будет что будет. Так поступают только слабые, малодушные люди.
— Не-ет, комиссар, я не слаб. И ты это хорошо знаешь. Но я могу драться только с врагом, а тут… С кем я должен драться? С представителями штаба армии? А может, с Протасовым ты прикажешь драться?.. Ему говоришь — белое, а он твердит — черное. Вот и весь разговор.
Наевшись, Воронов ушел, не сказав ни слова. Кожин позвал Голубя. Попросил его что-нибудь сыграть и спеть. Сам же, опять обхватив руками голову, сел за стол, задумался. Голубь, склонившись возле железной печки над баяном, начал играть.
Когда Валерий на минутку сдвинул мехи и перестал играть, Кожин поднял голову и вопросительно посмотрел на него:
— Ты чего?
— Я сейчас. Вот только ремень поправлю, — ответил Валерий и, подыгрывая себе, запел неторопливо, размеренно:
По Уралу свинцовые хлещут дожди,
Закипает отчаянный бой…
Кожин подхватил песню. Пел тихо, напевно. Казалось, что звуки этой песни исходят из самого сердца, будто кто-то умелой рукой осторожно прикасается к струнам его молодой, изболевшей души.
И дерется Чапай, партизанский начдив,
За свободный народ трудовой.
Вошел Воронов и, прислонившись спиной к бревенчатой стене землянки, слушал песню и наблюдал за Кожиным. Он знал, что сейчас в душе Александра клокочет буря, что он борется сам с собой. Знал, что этот человек не поддастся унынию, переломит себя и снова будет прежним — крепким как кремень, волевым, думающим.
А враги наступают на каждую пядь,
С каждой вышки орудье глядит…
Голос Кожина звучал теперь громче, увереннее, а взгляд с каждой минутой делался все более колючим, огненным. Он смотрел так, будто перед собой видел своих злейших врагов.
— Нет, не выйдет! — вскричал вдруг Александр и так шарахнул кулаком по столу, что посуда зазвенела.
— Что не выйдет? — спросил Воронов.
— Ничего не выйдет! Все равно им не удастся сломить Кожина, оторвать от полка!
— Вот это другой разговор. За это, пожалуй, и я бы выпил, — сказал Воронов и взялся за свой стакан. — Выпьешь со мной?
— Не-ет, — отрезал Кожин. — Не увидят они меня больше пьяным. Не доставлю я им такой радости. Играй, Голубь! — приказал Кожин и снова запел.
В землянку, словно вихрь, ворвался возбужденный Асланов.
— Тебя что, из пушки выстрелили? Что ты как ошалелый врываешься? Только песню зря испортил, — с неудовольствием сказал Кожин, вставая из-за стола.
— Зря? Я зря испортил песню?! — взорвался Асланов. — Я такое… такое принес!
— Что случилось? — спросил Воронов, вставая из-за стола.
— Ва! Они еще спрашивают, что случилось! Весь лес восточнее Андреевки забит резервными частями!
— Что-о?!
Эта весть так поразила Кожина и Воронова, что они несколько секунд молча смотрели на Асланова. Новость была потрясающая. Все хорошо понимали, что если к переднему краю скрытно подводятся новые части и если об этих частях молчат до поры до времени, то, значит, что-то готовится. И этим «что-то» может быть только одно — контрнаступление. Они еще не знали, когда именно наступит этот долгожданный день, но были уверены, что он на за горами. Иначе зачем было бы командованию стягивать сюда резервы.
— Вре-ешь!.. — вымолвил наконец Кожин.
— Пусть на мою голову обрушится вершина Арарата, если я вру. Сам своими глазами видел — пехота, орудия, танки. Все замаскировано так, что пройдешь мимо и не заметишь. Даже часовых и то трудно разглядеть.
— Ну, спасибо, друг. Спасибо за такую новость, — пожимая руку капитану, сказал Воронов.
Кожин не мог словами выразить свою радость. Он подбежал к столу:
— На, пей! Сколько душе угодно! — Александр наполнил водкой все стаканы и кружки, которые стояли на столе. — Пей, Антоныч! Валерий, пей и ты! За такую радость выпить не грех, — сказал Кожин.
Воронов медленно поднял свой стакан, обвел всех задумчивым взглядом и только тогда проговорил:
— Долго, очень долго мы ждали этого часа, друзья мои. Часа, когда наконец прозвучит команда: «Вперед!» Я пью за это простое русское слово: «Вперед!» И еще я пью за то, чтобы всем нам сопутствовала удача в боях.
Все сдвинули стаканы и выпили.
«Вперед!» — мысленно сказал Кожин долгожданное, ставшее бесконечно дорогим слово и снова вспомнил тот октябрьский день; тех потных, краснолицых гитлеровцев, идущих в атаку на его полк; тот полыхающий огнем луг и обгорелых, задыхающихся в огне и дыму своих бойцов, отражающих атаки гитлеровцев; женщину с грустными, укоряющими глазами, которая не дала ему кружку воды, ему, командиру Красной Армии, который не устоял против врага, отходил на восток и оставлял ее и таких, как она, на милость врага.
Сейчас, как никогда, он, Кожин, вместе со своими однополчанами должен думать только об одном — о том, чтобы скорее погнать эту фашистскую нечисть на запад, чтобы скорее дойти до того поля, где он увидел слезы на глазах своих солдат… Скорее добраться до околицы той деревеньки и взглянуть не в укоряющие, а в радостные глаза той женщины с ребенком, той милой девушки, тех людей, которые день и ночь ждут их там.
Перед этим великим делом, которое должна была выполнить Красная Армия, и в том числе он, Александр Кожин, со своим полком, такими мелкими и ничтожными показались все его обиды и переживания, что невольно подумал: «Да к черту все эти комиссии, всех этих Протасовых с их угрозами. Буду делать свое дело, и баста. Оно сейчас главное…» Он уже не мог ни минуты быть без дела, зная, что надо действовать, надо готовиться.
Олег и Голубь, задумавшись, сидели возле небольшого столика и ждали возвращения Кожина, который еще с утра уехал к командиру дивизии. Они не знали: по своей воле майор поехал в дивизию или его вызвали туда? Им казалось, что эта внезапная поездка связана с выводами армейской комиссии.
— Валера, а может, его решили снять с командиров?.. Может, хотят судить, а?.. — вдруг спросил Олег.
— Может, и хотят… — сокрушенно ответил Голубь. — Только не за что его судить. И снимать не за что. Разве в дивизии или, скажем, в армии не знают, какой он командир?
— А может, и не знают.
— Зна-ают, да только не хотят по-настоящему разобраться. Обидно даже.
— Конечно, обидно! Он знаешь какой? Он… он как Чапаев. Правда? — горячо вступился за командира мальчик.
— Ну, Чапаев там или не Чапаев, не в этом дело. А только воюет он — дай бог каждому.
— Это верно, — согласился Олег. — Только он совсем не такой стал, как раньше. Даже бредить начал по ночам… Слушай, Валера! Давай махнем к командиру дивизии или… или к самому командующему. Расскажем им все как есть. Они поймут. Поверят.
— «Махнем». Эх ты, солдат. Тут, брат, тебе не пионерский отряд, а армия. Тут свои законы.
В дверь просунулась голова Катюши. Она теперь работала в санитарной роте, но, когда выпадала свободная минутка, прибегала сюда и, вспомнив свою старую специальность, готовила для командира, комиссара, начальника штаба и всех, кто был возле них на командном пункте, обеды или ужины.
— Ну как, мальчики?.. Не приехал? — спросила девушка.
— Не приехал. Видишь ведь, — зло ответил Олег.
— А как же?.. — растерялась девушка. — У меня ведь пирожки остынут.
— Подогреешь, — буркнул Олег.
— Нельзя. Они тогда не такими будут. Пироги…
Олегу не понравилось, что вот ни с того ни с сего ворвалась к ним эта «тарахтушка» и прервала их серьезный, мужской разговор. Он слушал, слушал ее поучения относительно того, какие пирожки вкуснее — со сковородки или холодные, и наконец не выдержал:
— И до чего же вредные эти девчонки! Тут у людей горе, а она ворвалась и давай, как из пулемета, строчить. Уходи ты отсюда со своими пирогами!
Катюша не стала ссориться. Она молча двинулась к двери и только у порога обернулась и с обидой сказала:
— Эх вы, я хотела сделать как лучше, а вы… — И вышла.