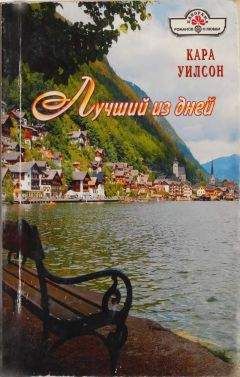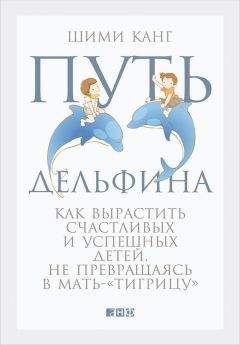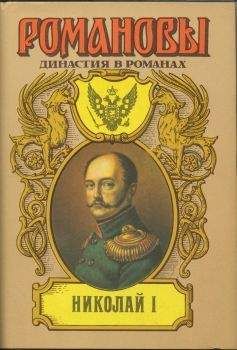Ежи Путрамент - Сентябрь
Новак даже собирался его окликнуть, не так, как всегда, а дружески, но в этот момент сзади что-то зарокотало — сперва далеко и тотчас поближе; Новак остановился, стал смотреть.
Сгущались сумерки, но еще не совсем стемнело. Из-за поворота вырвался мотоцикл с прицепом, сразу вслед за ним — второй и третий. Они мчались с такой скоростью, что Новак вскочил на ближайшее крыльцо и прижался к двери, хотя улица, слава богу, была не по-деревенски широкой — не меньше пяти метров.
Мотоциклы с ревом умчались. Новак едва успел разглядеть каски и черные палки, нацеленные вперед. «Винтовки», — почти сразу догадался он.
Ха-ха, значит, вот мы какие могучие, мы, Польша! Три мотоцикла! Он тотчас соскочил с крылечка и вприпрыжку, насколько ему позволял живот, кинулся на рынок. Он очень боялся упустить такое внушительное зрелище. Вскоре он обогнал Иойну, который тоже спешил изо всех сил.
На рынке было пусто, мотоциклы исчезли, только в отдалении, со стороны Жарновской улицы, слышно было их ворчание. Новак удивился: там проезжая дорога кончалась, превращаясь в тропку, которая вообще никуда не вела. Ничего не понимая, он остановился перед ратушей.
Местечко услышало трескотню мотоциклов, и на рынке немедленно возникли группки любопытных. Теперь шум доносился не со стороны Жарновской, а с Бжезницкой. Звук был более спокойный и глубокий, нарастал медленнее.
Наконец на рынок въехала невысокая пузатая машина, затормозила, человек двадцать солдат в касках, с винтовками спрыгнули на мостовую со скамеек, прилаженных по бокам кузова, как в автобусе. Новака словно кулаком толкнули в грудь: каски какие-то сплющенные, сапоги до половины голени, на воротниках черные нашивки.
Немцы! Не один он струхнул, другие, должно быть, еще сильнее испугались; все любопытные исчезли, словно и не было их, только в пяти шагах от Новака остался Иойна, вероятно оцепенев от страха.
С минуту все стояли: немцы — хрипло пересмеиваясь, Новак — ловя разинутым ртом воздух, а Иойна — опустив руки и беспомощно шевеля длинными пальцами.
Снова рев — со стороны Жарновской. Мотоциклы выскочили на площадь раньше, чем Новак сообразил, что они вовсе не обратились в бегство, как он было подумал, когда увидел грузовик. Мотоциклы остановились; все три седока, не сходя с места, разом гаркнули:
— Polnische Weg, zurück!.. [48]
Теперь смех и возгласы немцев хлестали Новака по физиономии больнее, чем запомнившийся ему фельдполицай. Он понимал, а может, только чувствовал, что это о его стране, о его городе, дорогах, жителях так издевательски говорят сильные, здоровые хамы в мундирах. Руки у него сжались в кулаки, ему хотелось драться, но он только вполголоса повторял:
— Не бывать этому, не бывать…
Вдруг два немца отошли от грузовика и зашагали к нему. Новак онемел, испугавшись, что они расслышали его бормотание. Они подошли, не глядя на Новака, уставились на дом, возле которого он стоял, по слогам принялись разбирать надпись на табличке — красной с белым орлом:
— Упраф… упрафле… — Не смогли. — Verfluchte! [49] — крикнул один из них, показывая, что ему наплевать на смысл надписи «Городское управление», а другой, ростом повыше, действительно плюнул в орла на табличке.
Потом они отвернулись, потому что их звали с грузовика, уже на бегу заметили Иойну, остановились, загоготали, как плохо воспитанные дети, тыча пальцами в его ермолку, халат, пейсы. Высокий навернул пейс на палец, дернул несколько раз, потом словно спохватился, отпустил пейс, с отвращением стал вытирать палец, тереть его о мундир, достал платок и снова вытер. Потом, когда его опять окликнули с грузовика, снял с ремня винтовку, щелкнул затвором и приставил дуло к животу Иойны.
Новак все это видел, но не понял, в чем дело, и только вспотел. Сперва Иойну отшвырнуло назад, тотчас после этого раздался выстрел и смех в грузовике, топот ног, резкий и быстро стихающий рев моторов.
И вот снова спокойствие, опустевшая площадь, ни огонька в темном местечке. Новак кидается к Иойне. Юноша упал навзничь, рот у него открыт, глаза тоже, они большие, выпуклые, неподвижные, невидящие, в левом мерцает отражение зеленоватой звездочки с огромного тихого неба. Смрад паленой шерсти. Дыра в лапсердаке, большая, с неровными краями, ее заполняет черная жидкость. Стоптанные домашние туфли, ноги раскинуты.
Крики, сбегаются люди, раздается плач. Новак три раза кряду рассказывает одно и то же:
— В двух шагах отсюда, ни с того ни с сего, могли бы и меня…
Потом он уходит; нахлынувшая отовсюду толпа оттеснила его, он чувствует себя одиноким, ему не хочется повторять свой рассказ, потому что в его голове вдруг все мешается, родится новая мысль, она с трудом вылупляется и протискивается по окостеневшим от забужанского бытия мозговым извилинам. Новак чувствует, что мысль эта важная, инстинктивно, как животное, ищет тихий угол, где сможет все обдумать. Он идет, идет все дальше и обнаруживает удобный закуток возле своей лавки.
С трудом родится эта мысль, потому что все сильнее раздирают его два чувства: «Меня, они могли бы и меня!.. Что для них значит всадить пулю в живот, спустить курок?.. Что для них значит? Для них! Что им! Они плевали на все божьи и человеческие законы. Какая же это сила! На орла плюнули, над нами, надо мной смеялись, над нашей мостовой, над нашим городом! Они сильные». Великая скорбь наполняет сердце Новака, словно смех и плевки немцев предвещают смерть не только польского орла, но и его самого. А впрочем, в ту секунду он не ощущает разницы между смертью своей страны и собственной смертью.
Плакать надо от скорби. Скупые обрывки знаний, сохранившиеся с очень давних школьных времен и убогих третьемайских торжественных заседаний в Забуже, скупые обрывки истории Польши, тень Сомосьерры, несколько лавровых листков из венка князя Юзефа Понятовского [50] — плакать, плакать бы над польской и Новаковой недолей, над смертью, осмеянной, оплеванной убийцами.
«Они могли бы и меня…» — снова заговорило это чувство. И, только переломив его, Новак наконец находит ту мысль, которая толкнула его от ратуши к домику Кагана: «Нет, именно меня не могли бы. Потому что я не ношу пейсов. Подошли, посмотрели — и ничего. Я не обрезанный. Великая сила. Могли бы, но не захотели. Им чихать на божьи и человеческие законы, но другие законы они уважают. Другие, свои. Божья заповедь гласит: не убий! Их заповедь гласит: не убий, но обрезанного можно. Значит, и другие заповеди… Как там насчет того, чтобы не пожелать ни осла, ни вола ближнего твоего?»
Домик Кагана смотрел на него слепыми прямоугольниками черных окон, и Новак тоже на них смотрел. Должно быть, взор его был полон такого ненасытного желания, что хозяин домика вышел на улицу.
— Добрый вечер. — Каган любезно поклонился, хотя был сильно напуган. — Вы слышали, какая беда с несчастным Иойной?
Новак утвердительно кивнул, но рассказ свой не стал повторять: несколько минут они вместе сокрушались по поводу гибели Иойны, прихода немцев, трагедии Польши.
— Но что же мы так, на улице, — спохватился Каган. — Извините меня, пожалуйста, не зайдете ли в дом? Вы стоите здесь, а может, у вас ко мне дело?
— Нет, я просто так! — ответил Новак. — Покойной ночи, я пойду. Да, такое горе… — И он очень быстро пошел домой, сжимая в кармане смятые бумажки.
Трагедия Польши мучила Новака всю ночь, его преследовали кошмары, несколько раз он просыпался, тяжело вздыхал. И только та подспудная, заботливо извлеченная наружу мысль принесла ему облегчение. Когда два дня спустя в местечко пришел немецкий полк, Новак встретил его совершенно спокойно и даже объяснял другим: немцы строги, но у них свой порядок. И, выговаривая слово «свой», он незаметно для себя округлял губы, словно облизываясь.
8
Они миновали задворки местечка. Направо и налево по тропинкам, по дорожкам, которые вели в одиноко стоявшие усадьбы, растекались небольшие группы людей в бурых халатах.
— Как вода из дырявого ведра, — заметил Вальчак.
— Правильно, — равнодушно, но твердо ответил Сосновский: он всегда соглашался с фактами. Кригер, разумеется, возразил:
— Ничего подобного. Как раз неправильно. Идя всем скопом, мы становимся силой, более того, становимся проблемой, — сказал он, многозначительно подняв палец. — С нами тогда надо считаться. А так, — он надул губы и презрительно махнул рукой, — по нескольку человек, в этих халатах… Любой полицейский нас сразу загребет…
Вальчак фыркнул.
— Как ты считаешь, Макс, пожалуй, и нам пора?
— Что пора, почему пора? — забеспокоился Кригер.
Кальве молча кивнул.
— Выметаться из толпы, — ответил Вальчак. — Из проблемы, — иронически повысил он голос и тоже сделал рукой затейливый жест. — Пока нас не захватили немцы…