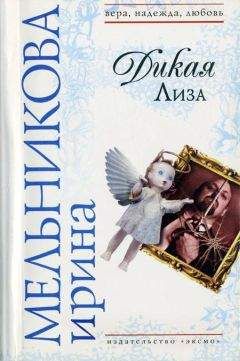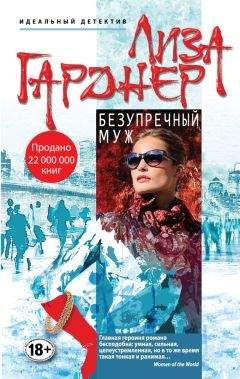Илья Эренбург - Буря
«Хватит, — говорит Хоменко, — отшагали…»
Внове трупы немцев: они похожи на восковые статуи паноптикума. Один стоит у дерева и смотрит на восток. Может быть, еще цитирует Ницше? Или прикидывает, что он привезет из Москвы к себе в Вюрцбург, где он учился (никогда не протирал штанишек), где он служил в банке (ни одной оплошности), копил пфенниги, угощал невесту желудовым кофе с яблочным тортом, во сне и то не мечтал о сибирских соболях или об александритах Урала. А потом он стал завоевателем, Чингис-хан из Вюрцбурга, Тамерлан в очках, с невестой, у которой двое детишек… Он стоит, прислонившись к березе, румяный от мороза, бодрый, но мертвый. А другие уткнулись лицом в снег, как в подушку, или лежат на спине — мечтатели, звездочеты… Сергей идет по заколдованному лесу — обломанные деревья, паутина проволоки, немецкие блиндажи, эти гроты нибелунгов с портретами кинозвезд, с замерзшим калом и кровью. А заминировали хорошо (это признание сапера), нужно все прощупать, проверить.
Подорвался на мине весельчак Хоменко. Как он пел про свою Украину! В мороз, и то мерещились черные ночи юга, белый цвет вишни, белая грудь Оксаны… Саблин, вечно небритый, с крохотными кротовыми глазами, сердито сказал:
— Правду говорят — сапер ошибается один только раз…
Они проходили мимо села, сожженного немцами. Возле розового жара стояла женщина, дети. Мороз был лютый, и только эти тлеющие угли, среди снега, твердого, как камень, поддерживали жизнь. Все, что осталось от дома, — теплая зола… Здесь эта женщина пела песни, здесь рожала, отсюда проводила мужа на войну.
— Пожгли паразиты. Замерзнем…
Бойцы молчали: для такого не было слов. Только Черных тихо ругался. Он не мог понять, зачем сожгли дом? Такая изба и у него, такая же хозяйка, дети. Можно понять, если жгут город — воина… Пушки делают, потом стреляют… Но разве изба военное дело? Сеяли коноплю, ячмень… Где же это видно, чтобы с детьми оставить в такой мороз! Что, у него головы нет?.. Бессовестный! Злоба росла в сердце, как опухоль, мешала вздохнуть. И Черных тихо, чтобы никто не слышал, ругался: «Ух гад! Паразит! Мать твою!..»
Они пошли дальше. Снова трубы вместо домов. От деревни остались только скворечни и черные пятна среди снега. Люди выползали из оврагов, из лесов, бродили вокруг пепла, жаловались. Это были длинные, нескончаемые рассказы о горе, они сливались, путались, плелись следом.
К утру поднялась сильная метель, слепило. А рассказы метались, хлестали сердце.
— …Пришел гад… Девочку увел…
— …Пожгли, все пожгли…
— …Бесстыжий, девку раздел…
— …Тетю Машу за волосы привязали…
— …Агафонова вывели, застрелили, вот здесь…
— …Мальчик не понимает, кричит, а он как подойдет…
Метель росла; росли, бродили, кружились сугробы.
А люди шли, завязали в снегу и все-таки шли.
На четвертый или на пятый день старая женщина сказала Сергею:
— Здесь и бросили. Баловались… Забили… — И, помолчав, она вдруг стала голосить: — Оленька!..
Они откопали убитую. Одежды на девушке не было, только валенок на одной ноге. Ни раны, ни увечий. Казалось, она спит; она была прекрасна в своем сне, похожая на каменное изваяние далеких веков — короткие ноги, крепкое закругленное туловище, лицо широкое и суровое — скулы, надвинутые брови, узкие глаза.
— Прикройте.
Сергей чувствовал — что-то в нем замерзает. Из множества чувств, извилистых, как жилки листьев, из всего, чем он прежде жил, оставалось одно — до чего ненавижу! Зубами бы загрыз… Это как страсть — стучит в голове, вяжет ноги, не дает опомниться.
Навстречу вели пленных, жалких, замерзших. Но у всех сжалось сердце: вот! Вот эти… Эти ли? Трудно было поверить — до того они выглядели растерянными, испуганными, ничтожными. В летних пилотках, повязанные платками — бабка с флюсом, хромые и прихрамывающие, сопливые, грязные, всхлипывающие, причитающие это заученное, ставшее заклинанием, молитвой, «капут». Неужели такие жгли, насиловали, пытали?
Один понимал по-французски. Сергей спросил:
— Зачем вы пришли?
— Я солдат, приказали…
— Но вы подчинялись с удовольствием, не правда ли? Жгли, убивали? Почему не отвечаете?
— Я военнопленный, господин капитан, я в вашей власти.
Сергею стало не по себе. Может быть, этот ничего не сделал. Немец почувствовал, что русский офицер смущен, и начал быстро говорить:
— Я ничего не делал плохого. Приказ — это приказ, а будь моя воля, я лучше остался бы в Париже. Там нам было очень хорошо, все с нами вежливые…
— Хватит!
Пленный сразу вытянулся, окаменел. А Сергей стоял задумавшись. Как всегда в минуты удивления или внутренней сосредоточенности, он откинул вверх голову, прищурился. Пленному стало страшно:
— Господин капитан, меня не убьют?
— Кто вас убьет? Глупости…
— Значит, я буду жить?
Сергей усмехнулся:
— Конечно, если не заболеете…
— Я здоров, вполне здоров…
Сергей махнул рукой — ступайте! Но немец нагнал его:
— Господин капитан, я здоров, но слабого сложения, меня нельзя посылать на тяжелые работы…
Сергей брезгливо поморщился. Они и Париж опоганили… Ему противно сейчас думать о Париже. Вчера девушка ему улыбнулась, а он отвернулся — кто ее знает, может быть, она улыбалась и немцам?.. Он спал в уцелевшем доме и задыхался: надышали, не выветрить… Лучше уж на морозе!.. Зонин дал ему зажигалку: «Спичек-то нет… А это они здорово придумали — видишь, чтобы не задувало»… Сергей машинально сунул зажигалку в карман; потом вдруг нашел ее в кармане, вспомнил — да ведь это немецкая! В ярости втоптал ее в снег — этакая пакость!
Еще месяц назад война для него была страшной необходимостью, столкновением двух миров, защитой родины, стратегией, тактикой, подвигом. Теперь война стала жизнью; все в нем воевало — кровь, желчь, дыхание, каждый сустав, каждое биение сердца.
Наступление как будто приостановилось. Немцы уж не просто огрызаются, они пробуют удержаться. Настоящие сооружения… Неужели мы выдохлись?.. Полковник Глухов сказал Сергею: «С недельку простоим…» Сергей думал об одном: дальше!.. Он старался образумить себя, играл в шахматы с Зониным, разговаривал с бойцами — о Москве, о далеких селах Заволжья, о детях, о простой, обыкновенной жизни. Но думал он только о немцах.
Вале он писал редко. Она отступила куда-то в прошлое, в то теплое, густое, пестрое прошлое, где можно было влюбляться, забывать, спорить о театрах (какой лучше — Вахтангова или Камерный?), мечтать среди кленов. В этом далеком мире, похожем на хорошо запомнившийся сон, Валя была рядом с Мадо. Он теперь часто вспоминал Париж, вспоминал с невеселой улыбкой — немцы шли по аллее, по которой он шел с Мадо, садились на скамейки под каштанами, вмешивались в их долгий, важный и бессмысленный разговор. «Сапер ошибается только раз…» Он не умер. Да и Мадо не умерла. У него Валя… Может быть, Мадо вышла замуж, остепенилась, счастлива? Какое ей дело до немцев, она говорила «ненавижу политику»… Он взял у пленного парижскую газету. Балет, что-то про Андре Жида, вернисаж выставки Дерена… «Корбей» продолжается. На вернисаже — Мадо. Немцы ведь ценители, меценаты, тонкие души…
Стыдно! Как можно чернить любовь? Он кругом виноват. Он бросил Мадо. Две недели, как он ничего не пишет Вале. А Валя — его жизнь. Он злится на себя и хочет запачкать Мадо. Мало ли что говорят фрицы. Тот рабочий с «Рош-энэ» — никогда не поверю, чтобы он примирился… У него был смешной чуб… Спрашивал про Сталина, про Москву, это хороший парень и настоящий француз. Такой не перекинется. Им еще тяжелее — мы все-таки вместе, а там воюй один… Проклятые фрицы!.. Он теперь говорил, как его бойцы, «фрицы». Еще недавно он ждал, что прибегут, придут, приползут друзья Анны, честные немцы, возмущенные своею армией, скажут «мы с вами»… Не видно… А если и перебежит какой-нибудь, то сразу понимаешь — перепугался. «Катюша» — вот их угрызения!.. Нехорошо. Мы их расколотим… Теперь и Гитлер это понимает, если он может что-то соображать. Но я не смогу быть прежним. Верующие думали, что яблоко познания вкусное. А лучше без этих яблок, потом и жизнь не в жизнь. Зонин говорит: «Мы с тобой стали умнее, многому научились». Конечно. Но и разучились чему-то…
Он хотел написать Вале, ничего не вышло; написал Нине Георгиевне, рассказал о наступлении, о сожженных деревнях, о разговоре с пленным. Хотел написать об убитой девушке, но не смог и вместо этого приписал:
«Ты меня, мама, вообще не узнаешь. Я теперь вижу, сколько во мне было детского, смутного, сколько нелепых фантазий. Я очень изменился, мне теперь хочется одного — перебить их всех. Я понимаю, что это смягчится, так всегда бывает — время подливает в вино воду, но это вино такое крепкое, такое злое, что понадобится много времени и много, очень много воды…»