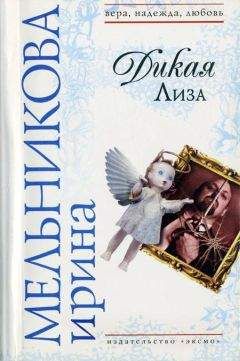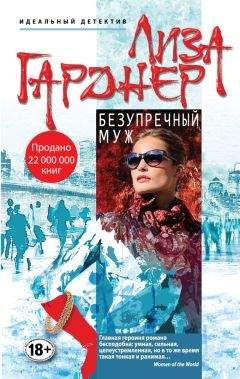Илья Эренбург - Буря
Лукутин представил себе этот лес летом. Земляника, тень, папоротник, девушки аукают. В выходной приезжали. Какой-нибудь папаша в толстовке, расположившись поудобнее, читал старую «вечорку», мамаша собирала сыроежки, а дети обламывали орешник. Прежде Лукутин не любил людных мест, увидав пригородный лесок, где яичной скорлупы и газетных листов, кажется, больше, чем листьев и травы, он морщился; а теперь он вспомнил такой воскресный день как прекрасную феерию. Неужели не увижу?..
Я сюда часто ездил в тридцать девятом, нет, в тридцать восьмом. Здесь летом жили Снегиревы. Значит, Москва совсем близко… где кончается лес, дачи. Занятно — идешь, в саду люди пьют чай, развлекаются — жизнь, как в витрине… Но до чего это близко, страшно подумать! Еще немного — и Химки, а там Сокол. Прежде был Петровский парк, считалось, что за городом. Москва очень разрослась.
Он стал думать о Москве, и его детство переплеталось с детством Поленьки, неожиданно выплывали события, лица, слова. О таких минутах говорят «человек вспоминает», но вспоминать можно по-разному, как разные находят облака — то перистые, то вязкие, густые. Воспоминания могут походить на раскопки, на книгу, где главы, страницы, примечания; на пласты горной породы, на горсть песку. Воспоминания Лукутина были запутанным клубком. Началось со слова «Сокол». Пошли названия улиц, переулков. Он обязательно хотел вспомнить, как прежде называли, как теперь. Глинищевский — это улица Немировича-Данченко. А как теперь Мертвый?.. Не помню… Странные имена, домашние — Собачья площадка, Дорогомилово, Зацепа… Хорошо, что зацепились! Федосеев говорил: «зубами в землю вцепимся». Его похоронили возле Уварова, там камень и буква «Ф». Он работал на «Шарикоподшипнике». Это далеко от центра. Какой туда трамвай идет? Не помню… ничего не помню… Теперь строят метро до завода Сталина. Симонов монастырь… Говорили, что в том пруду утопилась карамзинская Лиза. А толстовская Наташа жила на улице Воровского, там, кажется, Союз писателей. Это когда я повел Поленьку в Зоопарк… Ей очень понравились медвежата, а когда слона увидела, крикнула «Дядя Петя». У Пети, правда, длинный нос. Он теперь в артиллерии. Артиллеристы — молодцы, сколько раз выручали! Бесстрашные… Сейчас здорово бьют, еще сильнее, чем утром. У них традиции… Забавно — как стреляли из царь-пушки? А Кремль красивый, такого нигде нет, это не Византия, не Италия, другое, свое — чистота, большая ясность. Москва старая, так и говорят «не вдруг строилась»… Сколько такому дереву лет? Отец сразу сказал бы. Наверно, много. Росло, мерзло, опадало, зеленело, а сейчас может погибнуть, как человек, — снаряд, и готово. У них все перелеты. Наши-то как бьют, и это весь день, наверно, пришли подкрепления. Здесь ничего не знают, но, кажется, зацепились всерьез. Нельзя иначе — Москва. Они листовки сбросили — пишут, что смотрят на Москву. Может быть, и видно в бинокль… У мамы был смешной бинокль — из перламутра, как раковина. Меня взяли на балет. Что тогда шло? «Спящая красавица»? Не помню. Я не понимал, куда проваливаются в люки, спрашивал, а мама стеснялась. Я был тогда в приготовительном, очень гордился формой. Напротив гимназии был сквер. Восемь лет жизни связаны с этим сквером. Надя нашла в сирени три, а искала пять, сказала, что будет несчастная, я начал говорить, что есть счастье, и вдруг убежал. Сколько мне было тогда лет? Пятнадцать. Или шестнадцать. Да и потом бывало так же — не умел сказать о главном… Вот и стемнело. Дни стали куцые, понятно — декабрь. Не успеешь поглядеть — и темно. Так все — не успеешь достроить, долюбить, дожить… Я здесь самый старый. А Жарову девятнадцать. Когда сказали, что наши отбили Ростов, он захлопал в ладоши, как мальчик. Это большое дело — Ростов. Они обязательно хотят взять Москву, ведь как лезут… Ужасно, что так близко! Но не возьмут, теперь повсюду зацепились. Миша говорил, что в Москве идеальный порядок и следа нет паники. Взглянуть бы одним глазком! Наверно, Москва другая… Вчера Миша разговаривал с пленным. Немец спросил, где Сталин. Миша ответил — на своем КП, в Москве. Не поверил… Поглупели они, трудно себе представить — Гете, Фихте, Гегель, как-то не вяжется… Был бы Рихтер умнее, он иначе со мною говорил бы. Может быть, он где-нибудь здесь, берет Москву? Почему нет? Вот кого бы прикончить!.. Полгода назад не думал, что захочу убивать, это мне было непонятно. Может быть, я озверел? Нет, и отец взял бы ружье. Думаю, даже Толстой не выдержал бы. Ведь они не только глупы, они жестокие, убивают детей. Хорошо, что Поленька далеко… Если меня убьют, она забудет отца — слишком маленькая. А Катя ей не расскажет, это я знаю. Ага, теперь пристрелялись… Чорт знает, какой здесь ад! Интересно — потом опишет это кто-нибудь или нет? Да дело не в описаниях… Как там Поленька? Катя даже не написала, теплая ли у них комната… А счастье все-таки было, это неправда, что мелькает, и все. Одно то, что есть Поленька, это огромное счастье. Была работа. На бумаге это только чертежи, цифры, а я переживал каждый корпус. Обидно, что не удалось ничего построить в Москве. Я никогда не думал, люблю ли Москву, говорил — Ленинград красивее, только теперь чувствую, какая это любовь к каждой улице, к каждому дому. А дома — это люди…
Вместе с ночью лес как бы заполнился множеством людей. Они обступили Лукутина, некоторые подходили близко, разговаривали, другие шли мимо, как прохожие, или вдруг выстраивались, становились рядами непонятного шествия. Здесь были и товарищи по гимназии, и Сергей, и сотрудники наркомата, и строители, и старые ботаники — приятели отца, и Надя с веткой сирени, и рабочие. Они почему-то шли под первым снегом мимо Александровского сада, несли красные гроба. «Вы жеееертвою пааали»… Лукутин вспомнил — это после Октября… К сверканию глаз прибавились звуки, они покрывали все. Почему так громко поют? Он понял: это в нем. И люди в нем, никто их не может увести, Надя говорит, что будет счастлива, Поленька играет в серсо… Где это? Да как он не узнал — Парк культуры, направо киоск… Сергей прав, его проект интересный… И Москва уж не за шоссе, она не близко и не далеко, она в нем.
Перед тем как немцы на рассвете пошли в атаку, была короткая минута тишины, и после грохота ночи тишина показалась особенно сладкой. Лукутин улыбнулся. Лес не тот, что вчера — обломанный, обрубленный. Не верится, что здесь живые люди…
Немцы думали, что они больше не натолкнутся на сопротивление, кинулись вперед по целине. Тогда затрещали пулеметы. Миша орал: «Подавай!..» На лице Лукутина показались капли пота; а мороз был сильный, все заиндевело — и ресницы, и волосы на висках.
Атаку остановили здесь же в лесу. Передышки не было: пошел в контратаку свежий полк — только вчера их привезли. Вот почему так барабанили ночью, подумал Лукутин. Он хотел крикнуть об этом Мише, но не успел: упал в снег лицом.
Когда санитар его заметил, он обледенел, капли крови превратились в цветные каменья — на полушубке, на руке, на снегу. Мимо шли красноармейцы из новой дивизии. Они улыбались весело и беспокойно; все знали, что немцев гонят. Увидев мертвого Лукутина, несколько бойцов постарше подошли, молча постояли — каждый думал про свое; потом они побежали догонять товарищей.
19
Ну и мороз! Мутное солнце кажется куском льда. Больно глядеть — снег чересчур белый. А тени лиловые… Останавливается дыхание, белое облако, выползая изо рта, беспомощно повисает. А дым не может подняться, разойтись — это горят села. Все думают об одном, про одно говорят: «Наступаем!» Всесильные, с танками и с шоколадом, с Фермопилами, с черепами на рукавах, с «мессерами», с португальскими сардинками, с «Новой Европой», с егерями, гренадерами, с оберфельдфебелями, с фельдмаршалами, с фюрером, они самые, непобедимые, зигфриды, полубоги поспешно отступают.
Они бросают новенькие «оппели», фанерные арки, французское шампанское, дальнобойные орудия, фривольные открытки, даже бинокли — уж не те ли, в которые Москва была, как на ладони?..
Всем весело, хотя мороз, изловчившись, залезает под овчину. Сергей не может отвязаться от засевших в голове строк:
У русской девы первый хмель
Одни лелеяли сугробы.
Румяный холод и метель…
Вот прилипло! Не знаю даже откуда, и глупо — какая «дева»? А мороз, правда, горячит. Почему зиму зовут «безжизненной»? Есть в ней тайная страсть, она жжет сердце, как железо — пальцы… Немцам, должно быть, не по себе.
Потом писали о штурме Ивашкова — с этого начался путь дивизии на запад, писали о меткости артиллеристов, о натиске пехоты, о том, что командир дивизии заранее все продумал. О саперах в газете ничего не было: а начали именно саперы — немцы заминировали подступы к Ивашкову, нужно было тихонько подползти, разминировать. Ночь выпала лунная. Как Сергей проклинал эту дурацкую луну!..
Ивашково далеко позади. Теперь у саперов своя, коренная забота — дорога. Это дорога наступления; они идут, и солнце садится прямо перед ними, необщительное, скупое, солнце декабря. Все внове — брошенные машины («погоди — какой марки?»), немецкие указатели — не понять, что за деревня, бутылки с заграничными этикетками, коробки из-под сигарет, клочья пестрых журналов, кладбища с шеренгами крестов — вот-вот и мертвецы зашагают…