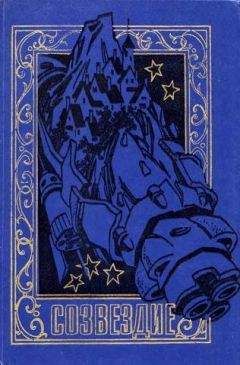Александр Бологов - Один день солнца (сборник)
Охнула во сне Люда, и Егоровна вздохнула — как бы в поддержку молодой напарнице. Но тем же временем подумала: «Мается, господи твоя воля… Хлопот полон рот…» Потом еще какие-то мысли прошли, угасая, — и о Люде — «Мне б ее заботы…», и о проигравшемся в прах солдатике, и о том, что, видно, дверь в задний тамбур кто-то опять оставил открытой, потому как тянет свежим холодом понизу; что вроде бы кончается уклон — и, значит, скоро Поныри… «А… в Понырях… Кто же выходит в Понырях?..»
На этом она и забылась коротким сном и уже не слыхала, как ее молоденькая помощница снова заворочалась, и проговорила что-то невнятное и даже застонала, потому что видела нехороший сон.
Люда видела, будто бежит по какой-то очень знакомой улице за своим парнем Валерием. Он, как всегда — в желтой безрукавке и узких джинсах. Но куда же он направляется? Да он и не один: кто-то ведет его, тянет за руку… Люда пытается приблизиться к Валерию, ухватиться за него, чтобы спасти, освободить для себя, но тяжелые ноги едва слушаются, все труднее отталкиваться от сыпучего песка дороги… Ей уже нечем дышать, колет сердце, а яркая рубашка Валерия мелькает все так же далеко… Не догнать, не догнать…
Но — ах, ну да. Ну конечно… — в который уж раз, в самый последний момент отчаяния Люда осознает, что это всего лишь сон, но просыпаться окончательно не хочет, а может, и не в силах этого сделать и какое-то время пребывает в состоянии легкого расслабления души. Ей, конечно же, приятно неожиданное избавление от тягостного сна, с другой стороны, она, как в жизни, как наяву, и — главное — независимо ни от чьей воли, видела своего Валеру… Он даже мог оказаться совсем рядом и, может быть, подчиниться какому-нибудь тайному ее желанию… «Не просыпаться… не просыпаться…»— старается она напрячь всю свою волю и погрузиться во мрак, снова растворить зыбкие ощущения в желанной усладе забытья…
И тут же она снова увидела Валерия. Она держит его за тонкую руку и двигается — будто летит — к плечу плечом по другой знакомой улице с высокими домами. Они направляются к одному из них. Люда просит Валерия ответить на какой-то очень важный для нее вопрос, но он качает головой и молча ведет ее к намеченному дому. Он ничего не говорит, только улыбается, и эта его улыбка кажется Люде необычайно чистой и доброй. Но вот они оказываются у огромного окна — а может, думает Люда, это такое темное зеркало, — и Валерий показывает на него рукой… Люда пристально вглядывается в стеклянные проемы и видит там его ясное отражение, а рядом с ним — не себя, а кого-то другого: какую-то женщину, которая, как и Валерий, укоризненно качает головой и улыбается ярко накрашенными губами…
И опять она проснулась в самый горький момент забытья и обрадовалась, что вот она, оказывается, тут, в служебном купе своего плацкартного вагона, а не у странного зеркала; и все, что показывало это зеркало, — лишь плод ее мучительных ночных видений. Что — сон? Глупость какая-то — и все. Наплевать на него с верхней полки…
— Тетя Сим! — позвала Люда, не поднимая головы. Она каким-то образом чувствовала, что та находится рядом, хотя и не слышала ничего, кроме ровного перестука колес. — Где едем, а?
— Поныри проехали, — не спеша отозвалась снизу Егоровна. — Теперь Курск. — Она широко зевнула, пробубнив невнятно какие-то слова, и яснее, чтобы слышала Люда, добавила — А ты что? Спи знай.
— Да проснулась…
— Приснилось что?
Егоровна тоже постоянно видела сны. Она верила в их вещее значение и, после особенно мрачных, а потому и прочно оседавших в душе, подолгу ждала от жизни какой-нибудь очередной каверзы. Предчувствия ее часто сбывались. Самыми тяжелыми, воскрешаемыми во сне, картинами прошлого — а оно никак не размывалось временем, не тускнело в памяти — были картины войны, о которых Люда, слава богу, и представления не имеет. И тут, слыша, как та облегченно вздохнула наверху и потянулась на полке всем своим телом, распрямила молодые косточки, она повторила вопрос:
— Страшное что-нибудь? Не кровь ли? Кровь — это… — Егоровна хотела сказать своей юной подружке что-нибудь теплое, успокаивающее, а кровь во сне — «к близким родственникам»— давала к тому легкую возможность. Но Люда перебила:
— Не-ет, — засмеялась она. — Это к родным, я знаю. Ой, тетя Сим, такое снилось, просто ужас. Я вам расскажу…
— Валерка небось?
— Ага.
— Ну факт, кто же еще…
— Да правда, тетя Сим. — Люда свесила голову. — А зеркало — к чему, вы знаете? Большое-большое, больше трюма…
— Зерькало? — Егоровна переспросила лишь затем, чтобы успеть придумать какое-нибудь подходящее объяснение. К чему может присниться зеркало, особенно если бьется, она имела представление: в лучшем случае — к тяжелой болезни. А в худшем… Немало слыхала ома жутких историй, которым предшествовали сны с зеркалами. Да и свою жизнь копнуть — можно вспомнить…
— Ага, зеркало, — повторила Люда; она даже попыталась показать его размеры руками — Вот такое, как стекла в большом магазине, вроде нашего универмага.
— Смотря в каком виде оно было, — уклончиво произнесла Егоровна.
— Нет, вообще — к хорошему или плохому?
— Я же говорю, смотря в каком виде. Другой раз бывает так, что не совпадает… Если вот разбитое видишь — это хужее…
— Нет, целое. Оно было…
Будь Люда более чутким человеком или будь она в эту минуту занята лишь толкованием своего странного сна, она бы, возможно, уловила в ответах своей старой напарницы некоторую недоговоренность, эдакий туман. Но она, успокоенная радостью пробуждения от скверного сна, думала прежде всего о том, что все это, скорее всего, ерунда — вещие сны, мало ли она их видит каждый день; думала что-то неясное о Валерии и уж потом, как бы попутно, о роли в сновидениях зеркал.
В дверь служебки постучали. Егоровна зашарила ногами по полу, всунула их в остывшие шлепанцы.
— Дайте стаканчик — попить, — глухо сказал просунувшийся в дверь заспанный мужчина.
— У питьевого крана, — сказала Егоровна слова, которые произносила десятки раз на дню.
— Там нету, — просипел пассажир.
«Ах да, это же тот, губастый, что вином с вечера угощал, все расходные стаканы забрал, а питьевой на место, видать, не поставил…»— решила Егоровна. Она достала из шкафчика — вытянула из мельхиоровой подставки — плоский стакан.
— Пусть там стоит, — кивнула она пассажиру.
— Угу, — понимающе отозвался тот.
«Хоть бы рубаху накинул, пупок свой, прости господи, прикрыл, — недовольно подумала о приходившем. — А в годах…» В коридоре послышался другой голос — кто-то еще, очевидно, подошел к питьевой нишке.
Люда притихла — то ли снова сон пришел, то ли так задумалась, как задумываются легко проснувшиеся люди.
За окном посветлело, близился восход. Это время Егоровна любила. Ранним утром ее, не в пример молодым, не тянуло ко сну — первые разливы света бодрили душу, сердце начинало биться ровнее и вроде бы чище. В эти минуты, если была возможность, она в служебке примащивалась у столика, подпирала голову руками и глядела, глядела, как пробегали мимо вагона тихие полустанки, укрытые мягким туманом лощины, речушки, едва видные в зарослях лозняка. И едва забрезжит, уже видишь людей, словно ничего без них на земле не делается. Вот сошел с дороги, равнодушно провожая глазами вагоны, путевой обходчик в оранжевой жилетке; зевая, вытянула перед собой зеленый флажок будочница — грохочи себе мимо, тут, у меня, все в порядке. А на ровном крутом откосе спозаранку стелет ряды одинокий косец. Волосы слиплись, рубаха — издалека видно — потемнела от пота, а он, кинув короткий взгляд на утренний пассажирский, машет и машет косой, — видно, торопится до работы пройти еще какой лишний прокос.
А откроется взгляду какая-нибудь деревенька, — Егоровна подберется вся, задержит дыхание и сразу и себя маленькую вспомнит, и места свои родные — Курцево, на излучине тихой Черней; Харинскую, куда, подросши, бегала с подружками на посиделки…
2Северянин спал дольше всех — с вечера, не меряя, не тормозя, он пил вино, пил и угощал других, заводил всю компанию. Да и пилось легко. Едущие в отпуск люди — люди большей частью веселые, добрые уже от одного ощущения свободы, от ожидания новых, незнакомых удовольствий. Месяц беззаботной жизни впереди — это ли уже не радость? А что за веселье, если не разделить его с другим, пусть и с едва знакомым, или даже вовсе посторонним, человеком? Это горе требует близости, понимания, сочувствия; радость же — чувство легкое и слепое — сама доверчива и бескорыстна.
Павел Черенков — так звали веселого северянина — не в первый раз вырвался на простор — отправился в отпуск без детей и без жены. С каждым годом сделать это становилось все труднее, но и с каждым годом все более возрастало желание поехать на солнечный юг одному, с развязанными руками. Оказаться на воле!.. Об этом Черенков начинал думать уже после Нового года.