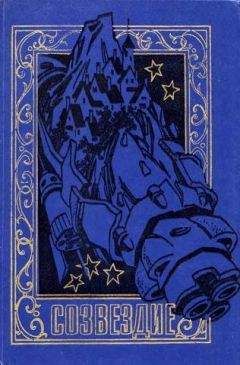Александр Бологов - Один день солнца (сборник)
Сперва, как потом восстановили картину, играли без интереса — недобор, перебор, то один раздает, то другой. Карты крепкие, хорошие, хотя и без особых рисунков, какие теперь часто бывают. Потом солдату надоела пустая игра, и он предложил сыграть на мелочь, до рубля: как рубль кто-нибудь проиграет, так и все — и карты в кучу.
— У меня всего-то рубля три, — сказал хозяин карт, посмотрев в кошельке и вроде колеблясь. Потом высыпал мелочь на столик, посчитал ее пальцем и махнул рукой — Ну, вот на эти — ладно, так и быть, проиграю.
А парень — отслуживший стройбатовец, домой ехал — играл лучше: раз, раз — и двадцать одно. Опять сдают карты — и опять двадцать одно. Его партнер и снимать ему давал, и колоду по нескольку минут мешал, а солдату все равно везет. Потом и второй подъехал, с рыжинкой; встал в стороне — об верхнюю полку рукой — и смотрит бараньими глазами, словно очень удивляется всей картине.
Сначала по пятаку на кон ставили, потом по гривеннику оказалось. Этот — чьи карты были — стал волноваться, покраснел, пальцы стал слюнявить, чтобы картами легче управлять. А парень уже в азарте, уже в аппетит вошел, потому что как свой гривенник кинул на столик, так и в карман больше не залез — чужими монетами расчет вел.
Тут уж банк большой скопился. Парень раздает, а у партнера только на ответ и осталось серебра. Взял он карту, поглядел на нее и на кучу денег, потом на руки солдата — а тот барабанит весело пальцами по колоде — и — «На все», — говорит. Солдат дал. «Еще». Будьте любезны. Взял, да не та — перебор.
Тот, что в проходе стоял, рыжий, не вытерпел, всунулся:
— Эх ты… Зачем на все-то шел? С шестеркой-то? — говорит проигравшему.
— А ты сам сядь, — отмахнулся тот.
— С ним сядешь, — кивнул рыжий на солдата, отгребавшего в свою сторону горку мелочи. — Так он и на пол-литра наберет.
Солдат — рот до ушей — пожал плечами и подвинулся.
— А чего, садитесь…
Приглашенный потряс головой, а сам сел — робенько, на краешек полки, поглядел, знакомясь ближе, на того, что был напротив, на солдата рядом и — была не была — достал рубль.
— Разменяй.
Солдат откинул ему, по одной, сколько надо белых монет, а рублевку оставил на столе — класть в карман было, наверно, неловко. Так разбили первую бумажку.
Потом, опять же с гривенника, пошел кон, и хозяин карт как-то незаметно возвратил себе часть мелочи, повеселел. Да и демобилизованный не очень огорчился — чужие деньги по столу передвигались. Вновь вступивший в игру особо не размахивался и все время был при своих: гривенник положит, гривенник возьмет, даже на пятачок шел, что солдату уже мелким казалось и не нравилось. А ему и в треугольнике фартило: зачинщик всей игры вскорости опять все серебро сдвинул в банк, и, чтобы было чем отвечать, вынул из кошелька трояк и попросил стройбатовца разменять его.
— Подождите, я сдам, может, вернете, — сказал тот весело, тасуя колоду.
Но, видно, плохо стасовал, потому что опять карты пошли не в лад и кучка мелочи вся сдвинулась к нему самому. Трешку, когда разменял, он не стал держать на столе, а затолкнул, сминая, в нагрудный, кармашек.
Солдат, как видели все, был не промах — так он все дело обернул, что на карточного владельца стало жалко смотреть. Явного вида он, понятно, не показывал, но руки выдавали. Карты, хоронясь, в кулак зажимал, до-взятые открывал не сразу — выдвигал медленно, с уголочка, словно от этого зависело самое лучшее совпадение.
А не везло. Ну, хоть разорвись. Все за него переживали. И троячок разбитый так же уплыл, как и первая мелочь. Невелики, конечно, деньги, но все равно деньги. А новичок в какой-то момент тоже чуть с последним двугривенным не расстался, уже рыжий чуб свой трогал нетвердыми руками, но незаметно поправил дела, опять все возвернул и даже в барыш пошел. Но внимание, ясное дело, было не к нему.
Чем больше ставят, тем, само собой, и игра круче идет. Этот снял, этот сдал., прошли круг, два, потом еще. И опять главный затейник все выложил, а ему очередную карту дали, и хорошая попалась — десятка, как потом выяснилось. И по нему было видно, что хорошая.
Ну и что, что хорошая, если денежки уже спущены? Рыжий улыбнулся неловко, пожал плечами — ничего, мол, не поделаешь, карты вниз, а руки вверх. А тот, с десяткой, подумал чуть, карту быстро укрыл за пазуху и вынул бумажник, а оттуда, из дальнего отделения, — стиснутую вчетверо четвертную. Вот так… А говорил, три рубля, мол, всего и есть…
Тут женщина — она потом все это и рассказала, потому что сидела на боковом месте и все видела с самой завязки, — даже испугалась: шутка ли, какие суммы пошли. Она поднялась и ушла от греха в другое купе, на свободное сиденье. А когда вернулась, на месте остался один солдатик. В лице ни кровинки, совершенно растерявшийся, и вроде бы даже в толк не возьмет, что же такое с ним произошло. Я, говорит, все деньги проиграл.
— Как проиграл?
— А так…
— Кому?!
— Этому, который позже подошел.
— Рыжему?
— Да.
— А другой?
— Он тоже все проиграл.
— Ах, боже ж ты мой! И много денег?
— Много.
— Сто рублей!
— Больше… Все проиграл…
Он за всю службу, что в стройбате работал, все эти деньги получил и вез домой. Ну, дурачок! А эти были аферисты, оба они были заодно, и думать нечего. Который все выиграл, когда вытянул из солдата весь капитал, сразу вдруг есть захотел. Пойду, говорит, перекушу, потом продолжим. Я тебе, говорит солдату, займу для игры сколько надо, ты подожди.
И ушел в вагон-ресторан. А потом и второй поднялся, тоже с виду очень расстроенный.
Когда в вагоне про это все узнали, все и пришли к выводу, что это были проходимцы. Конечно, она, Егоровна, посоветовала, что надо бы сделать, — в ресторан люди сбегали, военные офицеры вызвались. Да, так они и ждали!.. По всему поезду искали — как сквозь землю оба провалились. Солдата и жалели, и ругали, пора бы уж, дескать, знать: где на деньги игра, там не жди добра. А я, говорит, хотел, когда выиграю, все им вернуть, потому, что, мол, всего на рубль играть договаривались. И они, думал, тоже отдадут назад выигранное. Отдали…
Солдатика кто-то в ресторан сводил, угостили выпивкой, чтобы поуспокоился — черт с ними, с деньгами, наживутся еще. Но у него, видно, все его планы рухнули. Так потом долгое время и проехал в тамбуре, глядя неподвижными глазами в окошко; уже в ночи, после всех, на полку лег…
Он и во сне, пока дремала, не выходил из головы… «Эх, голова садовая…»— Егоровна вздохнула.
В середине вагона она задержалась. На семнадцатом месте сил нет как храпел пассажир. Егоровна хорошо помнила этого мужчину — компостированный билет у него был от Мурманска. Когда, уже в сумерках, она разносила последний чай, этот самый пассажир, веселый и говорливый, приглашал и ее к столику, толкал в руку стакан с желтым вином. «Я сейчас молодую пришлю», — отмахнулась Егоровна, но Люду, однако же, будить не стала — та отсыпалась за предыдущее ночное дежурство.
Егоровна нагнулась и тронула храпуна за плечо. Тот ненадолго затих, но тут же, как бы в возмещение простоя, затрубил еще пуще. И тогда Егоровна крепко взяла его за тяжелую руку и, поправляя на ходу подушку, перевалила со спины на бок.
— Что такое? — встрепенулся мужчина. — А? — Он приподнял голову и, вытаращив глаза, беспокойно повторил — Что такое?
— Ничего, — недовольно отозвалась Егоровна, отклоняясь к проходу. — Не один едешь, храпеть на весь вагон…
Пассажир, видно, сообразил, в чем дело, потому что кивнул, сощуренно поглядел на другие полки и, как и устроила его Егоровна, повернулся лицом к переборке.
Егоровна, более не задерживаясь, возвратилась в служебку. Люда спала, обхватив руками подушку и утопив в ней чуть ли не всю голову. Ноги — одна поверх одеяла — были по-детски широко раскиданы. Так, на животе, спят неспокойным сном; это Егоровна знала — насмотрелась за многие сотни поездок. Ровный сон обычно у тех, кто как приладил щеку на отдых, так и не шелохнется до рассвета или до тех пор, покуда не растолкаешь его на нужном перегоне, за полчаса до высадки. И среди женщин иногда встречаются люди, такого сорта. Они и просыпаются-то после полного забытья как огурчики: лицо — что яйцо, гладкое да тугое, глаза чистые, и расположение духа — позавидуешь. Все, что ни делаешь, им по нраву. И дела, видно, у таких идут — грех жаловаться. Как живется, таково и спится.
Егоровна закинула наверх свесившийся с Людиной полки конец покрывала и, сбросив шлепанцы, снова устроилась дремать. Люда вьюном крутилась по ночам, в гармошку сворачивала и простыню, и накидку. Вот и сейчас, едва успела Егоровна прислонить голову к твердой, как камень, холодной стенке и прикрыть веки, как девчонка опять завозилась, разметала в стороны худые голые руки — так, что одна свесилась, как неживая. Опять сползло углом байковое одеяло, но Егоровна не поднялась поправить его, подумала устало: «Затекет рука — сама уберет…» Потом потеряла было и эту мысль и все другие, какие возникают коротким свечением в затуманенном близкой дремой мозгу, но тут лязгнула железом сцепка, в голове на момент прояснело.