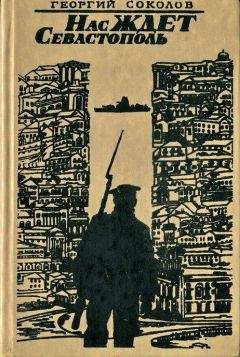Василь Кучер - Плещут холодные волны
Павло все чаще и чаще просыпался ночами, вдруг внезапно обрывая чудесный сон, в котором видел родную землю. Настороженно озирался в темноте, горячо шептал:
— Где вы, друзья мои? Откликнитесь!..
Но ночь молчала. В окна стучал холодный ветер, и в горах зло завывали голодные шакалы.
Павло горько вздыхал и снова ложился рядом с Атанасом, укрываясь с ним одной шинелишкой.
Так прошла не одна бессонная ночь.
Со временем тоска по родному краю все чаще стала посещать Заброду. Он терял голову: так истосковался по своим людям, которые были теперь далеко, за этими горами, а там еще и за морем, в родной советской стороне. Ему так хотелось увидеть мать, дорогих сестер и братьев, товарищей по Севастополю!
Он настороженно озирался вокруг, словно искал что-то. Искал… Что он мог найти на этой чужой земле?
Это был настоящий духовный голод по родному краю.
Однажды с ним приключилась странная штука. Идя по двору к своему бараку, он вдруг увидел перед собой… флотского писателя Крайнюка. Павло встрепенулся, протер глаза, но видение не исчезало.
— Петр Степаныч! Товарищ писатель! — бросился к нему Павло.
Человек оглянулся на его зов, и Павло увидел, что это Бранно Рыбарь.
— Что случилось, другар? Может, ты хотел что-нибудь спросить у меня?
— Нет. Просто вы мне напомнили фронтового друга, нашего писателя Петра Степановича Крайнюка… Вот я и позвал, — смущенно объяснил Павло.
— Фронтового друга? А кто он такой, этот друг Крайнюк?
Врач коротко, но взволнованно рассказал Бранко все о Крайнюке. Черногорец, вздохнув, сказал:
— Ну что ж, другар, называй меня и дальше так, если твое сердце к этому лежит… Называй черногорца Бранко Петром Степанычем… Это для меня большая честь зваться русским именем…
— Спасибо!.. Я не забуду этого, дружище, — пожал ему руку Павло.
Проходили дни, и Павло стал замечать: то один, то другой из его новых друзей очень напоминает ему кого-нибудь из старых знакомых. Какой-нибудь поворот головы, малейшая интонация, жест — и перед глазами встают, словно живые, то Фрол Каблуков, то матрос Журба.
А однажды ему померещилась мать. Возвращался он как-то с базара в лагерь, опустив глаза в землю, с мешком за плечами. Все деньги истратил на лекарства и на картошку. В кармане осталась последняя монета. Вот и брел из-за этого опустив голову. Тропки перед собой не видел…
Вдруг кто-то кашлянул впереди.
Павло поднял голову, и сердце его замерло. В нескольких шагах от него плелась согбенная и безмолвная в своем горе женщина. Павла так и затрясло.
— Мать!
Женщина ступала не спеша, осторожно, как его мать. И голову так же, как она, склонила на правое плечо. И левую руку прижала к груди, словно у нее снова заболело в пути сердце…
Павло и не опомнился, как позвал ее:
— Мама!
Женщина оглянулась, взглянула на Павла полными слез глазами и почти механически протянула черную высохшую руку. Посиневшие губы еле заметно шевелились, и Павлу показалось, что она шептала свои горькие слова не по-турецки, а на его родном языке:
— Подайте, христа ради…
Павло выхватил из кармана последние деньги и подал нищей.
Она поклонилась и сошла с дороги, чтобы он мог свободнее пройти. Павло вспомнил, что не раз видел эту женщину на базаре, когда она стояла у торжища, протянув людям руку. Видел, как прогонял ее полицейский, толкая в спину резиновой палкой… Почему вдруг она показалась ему похожей на мать?..
Значит, это у него началось серьезно… Тоска по родному краю… Она страшнее голода. Это болезнь. Она, кажется, даже имеет свое название… Подождите-ка! Но как она называется в медицине? Да где уж ему припомнить! Голова стала абсолютно непослушной.
И, углубившись в эти мысли, он уже не чувствовал ни голода, ни холода, пробиравшего до костей, надвигавшегося тяжелыми седыми тучами из-за каменной горы…
Глава четырнадцатая
Шумит древний лес, поет свои вечные песни. Тепло, уютно. Павло даже вспотел, собирая сухой хворост. Уже добрую связку набрал, туго стянул бечевкой и присел на нее передохнуть. Атанас ушел в город, а Павлу выпала очередь идти в лес. Так они и дежурили: один на базар, второй за дровами.
Зима была холодная, без снега. Пронизывающий ветер так и свистел днем и ночью, пробирая до костей. Заброда с Атанасом скопили немного денег, чтоб купить на зиму хоть какую-нибудь одежонку. Зашли в магазин. На прилавках лежали одни только грубошерстные немецкие эрзацы, но цены на все были такие, что Атанас тихо свистнул и потянул Павла на улицу. Хозяин магазина окинул их презрительным взглядом — тоже мне покупатели! Так они ничего и не купили.
Пришлось бы Павлу зимовать в летней одежде, проносившейся во многих местах, штопаной-перештопаной, но над ним смилостивился лагерный комендант, предложив старую шинель с плеч солдата, недавно умершего от туберкулеза. Другого выхода не было. Пришлось взять ее, хоть комендант содрал за нее чуть ли не втридорога. Турецкая шинель пришлась Павлу в самую пору. Он починил сапоги, отрезав голенища, покрасил охрой полотенце и надел его на шею вместо кашне. К пилотке пришил наушники и стал неузнаваемым. Посмотрел на свое отражение в окне и удивленно проговорил:
И як воно зробилось так,
Що в турка я перевернувся?..
Атанас услышал эти слова и весело засмеялся. Болгарии искренне обрадовался, что его друг наконец хоть немного приоделся и не будет дрожать в морозы. Он даже хотел сфотографировать Павла в этой одежде, но не хватило денег. Осталось в обрез на хлеб, сахар и картошку. Да еще на маргарин, чтоб было чем заправлять похлебку. Павло теперь не придерживался диеты, перешел на ту же еду, что и Атанас. Жить стало легче.
Не успел Павло как следует встать на ноги после пережитого в море, как у него усилилась новая болезнь. Страшная и неотразимая, жгучая и вечная, которую он не мог победить ни лекарствами, ни едой, ни режимом и лечением. Ведь от этой болезни лекарств на свете не бывает, да, наверное, никогда и не будет. Один голод прошел — начался другой, голод по родному краю, невыносимая грусть и тоска по далекой Сухой Калине, в которой тужит и плачет мать, по сожженному Севастополю, в котором осталась Оксана. Что с ней теперь? Жива ли?
Павлу каждую ночь снился далекий и недосягаемый Ленинград, высокие и светлые аудитории медицинского института. Он видел хмурую Неву, сияющую таинственным светом белых ночей. Ему виделись веселые стайки девушек на Невском, он, казалось, слышал их мягкие голоса и звонкий смех. Павло видел себя то у памятника Ленину, возле Финляндского вокзала, то в тихих залах Эрмитажа. И везде его окружали люди. Свои, родные люди.
Днем было еще труднее. Сердце разъедала жгучая печаль и тоска по родному краю, та необыкновенная болезнь, которая в медицине называется ностальгией. Он все-таки припомнил это название, но был уверен, что ни единый человек не страдал от этой болезни так, как он, Павло. Ведь он ничего не знал о том, что ждет его впереди. И его тоска была страшнее всякой ностальгии, горше любой грусти…
Он сидел в лесу на связке хвороста, а казалось, что над головой шелестят родные осокори на лугу над тихим Осколом. Вот выйдет на порог мать и тихо, ласково позовет:
— Павлуша, обедать пора!..
Заброда вздрогнул, со страхом озираясь на дикую чащу. Показалось, эхо прокатилось по лесу от этого материнского голоса. Даже прислушался. Его действительно кто-то звал.
— Павлу-у-у-уш! Ого-го-го-го!
Неужели Атанас? С чего бы это ему кричать? Может, что-нибудь в лагере произошло? Вот лихая година. И мысленно побыть с родным краем не дадут. Павло взвалил на плечи хворост, пошел на этот голос. Он слышал его все яснее, потом увидел болгарина, который напролом бежал сквозь кусты, низко пригибая голову.
— Я здесь! — закричал ему Павло. — Что случилось?
— Письмо! Тебе письмо пришло! — кричал Атанас.
— Где же оно? — Павло бросил хворост и побежал ему навстречу.
— Там, у коменданта. Он мне не дает, — развел руками Атанас.
— А откуда письмо? Из посольства?
— Да, наверное, из посольства. А откуда же ему быть? Пойдем быстрее, — потянул Павла за рукав болгарин, взваливая себе на плечи хворост. — Давай и я немного понесу…
Не заметили, как добрались до лагеря. Но пришлось долго ждать — комендант лег отдыхать. Наконец они получили письмо и побежали в барак.
Из конверта на солому выпала фотография, на которой был снят смуглый моряк в белом кителе и мичманке с якорем. Павло взглянул на него и, понурившись, опустил безвольно руки.
— Что ты, Павлуш?! Кто этот моряк?
— Не то, — прошептал Павло. — Не то…
— Да кто он?
— Капитан «Анафарты». Тот, что спас меня, — наконец выдавил из себя Павло. Он помолчал какое-то мгновение и, горько вздохнув, сказал: — Видишь, чужой прислал, а свои молчат. Молчат…