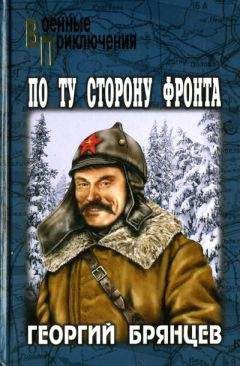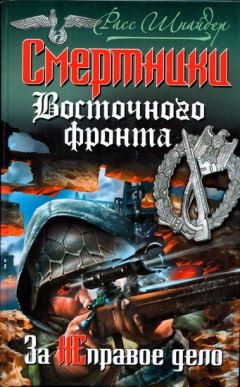Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
Но это не вернет к жизни убитых, а вампир-психопат успел уничтожить миллионы. Так что смирительная рубашка еще не кара. Не будет карой и вынесенный в Нюрнберге приговор. Нет такой кары. Ее даже нельзя придумать. Все это лишь предохранительные средства на будущее, очень гуманные и мягкие.
Кондуктор объявляет «Главный вокзал», я вскакиваю, выбегаю в последнюю минуту и не узнаю перевернутую площадь, которая из гостиничного окна выглядит совершенно иначе.
Скорей к себе, через все коридоры, уснуть, успокоить возбужденные мысли, ассоциации, память, острую, как та колючая проволока.
В проеме разрушенной части гостиницы печально завывает сегодня ветер, проходя там, я ежусь от леденящей дрожи. Страх или холод? Запыхавшись, вбегаю в комнату, заказываю разговор с каким-то отдаленным местом, которое по необъяснимым причинам называется «польский лагерь», хотя слово «лагерь» в эпоху Гитлера приобрело отвратительное значение. Я не понимаю, почему поляки до сих пор торчат в лагере? Это зависит от политики Лондона?
Я услышала приятный, любезный голос телефонистки, ответила ей по-английски, по-немецки мне не хотелось говорить. Она сладким тоном пропела:
— Соединяю.
С кем же соединит меня эта любезная немецкая барышня? С моими ровесниками, чьи фамилии уже вырезаны на дощечке, воткнутой над общей могилой? Разве теперь услышишь их голоса, взрывы смеха, песенку, распеваемую в лесу у костра. Вслед за моими ровесниками в ряды подполья пришли сражаться с оккупантами двенадцати-четырнадцатилетние подростки. Серьезные, все понимающие. Я никогда их больше не увижу, не услышу их голосов. После войны мне рассказали, когда и где их убили.
Звенят провода, это мороз и снег, это сосульки, повисшие на телефонных проводах, время от времени с тихим звоном падает ледышка. И тогда мне кажется, что здесь, в Нюрнберге, в стране, удивительно враждебной чужим и своим, раздаются потерянные слова кого-то из них, людей моего поколения, у которых отняли жизнь.
— Алло! Алло! Соединяю!
До чего нежно говорит незнакомая телефонистка! Ее голос должен успокаивать, но меня он пугает, ведь нельзя соединять с пустотой, с местами, где нет жизни.
Непрекращающийся тихий гул в проводах словно бы доказывает, что связь не действует. И вдруг…
Голос внезапно ворвался в эту абстрактную тишину, удивил меня, особенно потому, что показался знакомым.
— А! Добрый вечер! Говорит рядовой Нерыхло. Нет, ничего, мы просто ищем повсюду капитана, я нашел учителя из нашей деревни, он может опознать немца. Вы помните?
— Беспалого? С наростами на подбородке?
Нерыхло обрадовался.
— Да-да! Помните! Капитан говорил: «Вам, Нерыхло, не мешает пошевелить мозгами», ну я и пошевелил, мне, знаете, дважды повторять не надо. Сначала я разыскал рядового Паница, он второй свидетель, а потом узнал, в каких лагерях был учитель, каким эшелоном возвращался, нашел людей, с которыми он вместе шел, и так, разматывая клубок, откопал его в госпитале для бывших узников. Кожа да кости, но жив. Даже уже там работал, как оклемался. Что и говорить, повезло ему, выжил. Мы сразу же послали вызов, просили приехать в Нюрнберг. К такой телеграмме отнесутся с вниманием. Алло! Алло! Вы слушаете?!
— Слушаю.
— Мне показалось, что нас разъединили. Ну так вот, он сможет опознать этого преступника, беспалого. У меня просьба, это очень срочно, а я никак не могу найти капитана, куда-то исчез. — Он замолчал, словно бы обдумывая свою просьбу, но тут же продолжил твердо и решительно, без колебаний: — Учитель будет искать капитана Вежбицу в Нюрнберге, хотя они и не знакомы.
Я раздумывала, что ему ответить.
Нерыхло просил:
— Пожалуйста, если кто-нибудь из польской группы увидит капитана Вежбицу… Пусть скажет ему, что учитель скоро приедет.
— Разумеется. Конечно. Я ему немедленно передам. Я видела капитана час назад.
— А где он может быть теперь?
— Не имею понятия. Но до завтра, наверное, найдется.
Я кладу трубку. Потом поднимаю ее снова, жду сигнала. Аппарат стоит на окне, я прижимаюсь лбом к стеклу. Черная немецкая ночь поблескивает далекими огнями, на мгновение свет исчезает, потом снова возникает. От ветра качаются уличные фонари, по небу несутся облака, то заслоняя, то открывая темную бездну, и где-то там, в бесконечной выси, мчится навстречу тучам месяц.
Упрямство, с которым человек интересуется кем-то одним из многих миллионов, совершенно иррационально, с равным успехом можно думать о единственной мигающей звездочке, среди туманностей и далеких галактик, мечтать о разговоре с ней, надеясь на понимание и внимание с ее стороны.
И все же упрямство заставляет человека искать, сверять свои мечты с действительностью. Как это он сказал? Откопал его… Повезло ему, выжил. А ведь выжили не все. Не всех можно сегодня отыскать.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Неожиданно солнце принесло с собой волну тепла. Кое-где еще лежит снег. Нежные прикосновения лучей снимают с меня напряжение, в таком состоянии я вышла из душного зала нюрнбергского суда.
Конец. Я не вернусь туда ни сегодня, ни завтра. Мне надо очухаться после всех тех дней. Я иду спокойно по асфальтовой дороге, стараясь ни о чем не думать, вычеркнуть из памяти жирное бабье лицо Геринга, хоть ненадолго забыть об остальных подсудимых и проблемах, которыми уже много месяцев занимается Трибунал.
У меня одно желание: быть как можно дальше от Нюрнберга, я дала показания, выполнила свой долг по отношению к мертвым и по отношению к тем, кто только еще появится на свет на этой планете, полной надежд, и начнет свой путь, веря и радуясь, считая жизнь моего поколения мрачным историческим прошлым.
Я иду посредине дороги, теплый ветер дует мне в лицо, пахнут влажные поля, из-под снега выглядывает побуревшая трава. Я глубоко дышу в стране врагов и с удивлением понимаю, что на сердце у меня легко.
Охотнее всего я так бы и шла вперед по этой дороге, не возвращаясь больше в старинный, изысканный «Гранд-отель», и больше всего мне не хочется видеть ежевечерние веселые ревю. Танцующий Нюрнберг. Лицемерный Нюрнберг. Мне надо идти быстрым шагом, чтобы устать, чтобы учащенно забилось сердце, если я хочу выбросить из головы отвратительное сомнение, охватившее меня здесь, в Нюрнберге, где я должна была поверить в абсолютное торжество международного правосудия.
Клаксон и писк тормозов за спиной не пугают меня: я ведь выжила, и мне теперь трудно представить, что могу оказаться в опасной ситуации, теперь, после того что мне довелось пережить за годы войны.
Американский солдат выскочил из огромного зеленого крытого грузовика. Мне показалось, что он начнет сейчас кричать, возмущаться, но он совершенно неожиданно опустил лесенку и открыл заднюю дверцу.
— Автостоп! Автостоп! — кричат хохочущие девушки и парии, неизвестно из каких кустов выскочившие на дорогу. Это французы. Они спрашивают солдата, куда тот едет.
— Автостоп, — отвечает водитель и показывает на карте город.
— Ратисбона!
— Регенсбург!
— Автостоп! Ратисбона!
Без колебаний ныряют они в середину. Худой французский паренек помогает всем забраться, вежливо подставляя руку, потом обращается ко мне по-французски:
— А вы? Равенсбрюк?
Как он догадался, что я бывшая узница? По коротким волосам? Слишком медленно они отрастают, думаю я с сожалением, и под глазами тени войны.
Биркенау, объясняю я и по глазам вижу, что он знает это слово.
— Мы едем в Регенсбург, водитель должен что-то привезти оттуда и обещал нас прихватить на обратном пути.
Мне все равно куда ехать, лишь бы подольше не слышать немецкой речи. Французы согласны со мной. Сидящая на скамейке девушка что-то тихо поет, в такт тарахтящему грузовику. Нам тепло и хорошо. Мы подпеваем ей все вместе, и даже шофер пытается насвистывать эту мелодию.
Тощий французский архитектор обещает показать нам город. Он знает Регенсбург по лекциям и был тут когда-то до войны. Помнит памятники старины, развалины римских стен и знаменитые Проторианские ворота. Но как только машина остановилась и была спущена лесенка, нас поймал и окружил заботой немецкий «господь бог» в облике старообразного, худого и сгорбленного знатока местных архитектурных чудес. Нравится нам это или нет, но он будет сопровождать нас, не отставая ни на шаг, до самого готического собора, обрушивая при этом на наши головы поток дат и фамилий.
— Нас может спасти только чувство юмора, — говорит французский архитектор и длинными шагами пытается отдалиться.
Все попытки увильнуть от гида напрасны, и мы слушаем и слушаем про доисторические и исторические времена, потом осматриваем собор снаружи и задерживаемся перед каждым предметом внутри, мы получаем подробнейшие объяснения на тихом и кротком немецком языке. Мне хотелось остаться снаружи. За стенами собора греет солнце, внутри же царит могильный холод, пахнет ладаном.