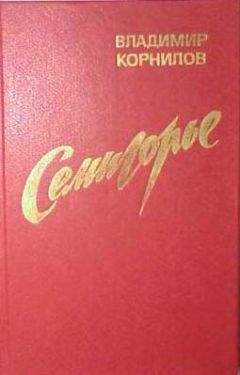Владимир Корнилов - Годины
— Нет, уважаемая Капитолина Христофоровна, — говорил он, блуждая глазами по сумеречному пространству дома. — Нет, я не из таких, кто завидует: по службе — начальнику, по дому — соседу. Да, я составляю графики, составляю сводки. Я не герой фронта. Но в душе я — художник. Мне дано видеть землю, небо, человека. Я чувствую жар красоты! И зрю насквозь пеструю человеческую натуру! Вы по своему не молодому, так сказать, опыту должны знать, что по натуре человек изрядно пестренький. Как, к примеру, лоскутное крестьянское одеяло. Лоскуты сшивают; старые, новые, цвета разного, а вместе — одеяло, то есть человек. Мне дано это видеть. И запечатлевать! Не в звуках — я не композитор. В красках!.. У меня есть портреты, выхваченные из гущи быта… Скажу вам, не оцененные еще портреты! Я покажу. Отступлю от принципов и покажу. Вам! Вы бываете в городе? Да? Я так и думал. Вы зайдете к нам. Я покажу. И жену покажу…
Капитолина внимала разговорившемуся уполномоченному с незнакомым чувством робости. Тень его, вздымающаяся на стене от светившей на краю стола керосиновой лампы, как бы уширяла, могутила самого гостя; разгоряченный угощением и разговором, гость казался Капитолине, завороженной ожиданием неодинокой ночи, чуть ли не чудом, ниспосланным в теперешнее безмужичье. Ее приятно щекотнуло вырвавшееся из многих непонятных слов приглашение городского человека, но в мрачность вогнало упоминание про жену. Ее бледно-зеленые, с холодным, темным ободком глаза как бы уменьшились, недобро заблестели; кто Капитолину знал, мог ожидать немедленных и самых крутых ее действий. Но на этот раз Капитолина успела сообразить, что по нынешним временам крутые действия к добру не приведут. В то же время по скопленному опыту она в точности знала, что всякое поминание жены или оставленных дома детишек расстраивало даже самых бесшабашных мужиков, потому она сделала умственный ход, достойный не только женщины, но и полководца. Концом розового передника она вытерла губы, будто готовясь целоваться, наклонилась над столом и, не давая гостю углубиться в дела семейные, с участливостью в лице и голосе спросила:
— А матушка ваша в далеких ли краях обитает?..
Геннадий Витальевич на минуту застыл в удивлении, даже в изумлении, потом махнул рукой, будто послал приветствие.
— В далеких! В краях, невидимых для живущих… — Он проговорил это с такой печалью, что у Капитолины сжалось сердце от жалости к самой себе. А Геннадий Витальевич вдруг разволновался, заговорил, как будто только и ждал ее вопроса:
— Не знали, не знали вы моей матушки! Умнейшая женщина, скажу вам. Ведь мог бы я и не быть, вот как есть сейчас перед вами!.. Девочки, все девочки-сестрички рождались… А папаше нужен был я, — хоть один, но молодец! Матушка это знала. И — это надо, представить! — решила поправить несправедливость, ниспосланную самой природой! Матушка вызнала где-то важный женский секрет. Оказывается, и такие секреты есть, в которых скрыта тайна рождения особи, — кто, как говорится, выглянет на белый свет: он или она? И, как в откровенности поведала мне матушка, секрет заключается в том, кто в минуту самого таинства зачатия сильнее пожелает близости — муж или жена. От страсти жены рождается мальчик. Вы понимаете?!
Капитолина даже привстала, по тугим ее щекам пятнами пошел гулять румянец. Отмоли она перед богом все свои забытые и незабытые грехи, и то не сумел бы он дать такого нужного ей оборота в разговоре! Вся будто приподнявшись над столом, Капитолина выдохнула с превеликим сочувствием:
— Понимаю! Оченно даже понимаю… — Она хотела добавить «миленький мой», но сумела и на этот раз с твердостью сдержать порыв прихлынувших чувств; только осторожно добавила: — Женщины в таких делах мудрющие люди!..
— Не все! — выкрикнул Геннадий Витальевич. Он вскинул руку и потряс пальцем перед лицом Капитолины, и Капитолина поспешила согласиться:
— Не все, не все, правый ты мой. Сроду такого понимания не схватишь!..
— Да, в том суть! — сказал Геннадий Витальевич, опуская низко к столу лобастую голову. — Но я — о матушке… Так вот, собрала матушка отца в командировку и с первого часа стала ждать. Ждет и в себе ожидание подогревает. На огне, так сказать, ожидания кипит. И ко дню приезда в таком превеликом нетерпении оказалась, что когда отец вошел, она не дала ему даже раздеться… Мда… Я, кажется, не в те ворота. Семейная тайна, так сказать. Оглашению не поддается… Что-то голова в кружении… Мне бы прилечь, милая хозяюшка…
Капитолина выводила гостя из-за стола с таким вниманием, с такой осторожной бережливостью, что глядеть со стороны — в руках ее был не муж во плоти, а по меньшей мере блюдо с дорогими пасхальными яичками! Проведет шажок — словом приласкает, проведет другой — рукав погладит, на третьем шагу и вовсе к плечу припала, залепетала что-то, переводу не поддающееся. И, усадив на мягкую постель, тяжело преклонилась, сама расшнуровала, стащила с ног до жалкости оббитые ботинки со стоптанными набок каблуками и носки, сказать прямо, несвежие, которые гость в еще теплившейся стеснительности пытался вызволить у нее из рук и засунуть в ботинки, чему Капитолина со снизошедшей на нее игривостью воспротивилась. Гостя в конце концов она уложила, до подбородка укрыла пестрым тяжелым одеялом и, укрывая, слегка придавила боком. Геннадий Витальевич в охватившей его трогательной вере в бескорыстие добра, надо полагать, забыл в эти минуты о жене и высоких своих полномочиях от области. Накормленный, напоенный, разморенный почти банным теплом избы, душевно размягченный услужливостью хозяйки, еще не ощущая нависшей над ним опасности, он в ответном благодарном чувстве нашел укрывающую его руку, прижался щекой.
— Как матушка!.. Спасибо доброй вашей душе… Вы ко мне, как матушка!.. Незабытая, добрая моя… — Он бормотал, выражая словами и движениями головы объявшие его чувства, терся небритой щекой о неспокойную руку Капитолины.
— Погоди-ка, касатик. Сейчас я…
Капитолина потревоженно сползла с кровати, пошла по тяжко постанывающим половицам. Пока, скинув катанки, ходила по дому, запирала дверь, сдирала с себя розовый с оборочками передник, гасила лампу, Геннадий Витальевич забылся в блаженстве мягкой постели. И не очнулся, если бы не почувствовал удушья: чьи-то цепкие руки стискивали его грудь, жаркий шепоток опаливал ухо:
— Нут-ко, мужичок, шевелись…
Он попытался высвободиться из-под живой, шевелящейся тяжести, суетился руками, полузадушенно выкрикивал:
— Позвольте… Позвольте…
— Позволю. Позволю… — шептала Капитолина, все крепче сжимая его вместе с подушками. И тогда уполномоченный, всхлипнув, вдруг завыл, тонко, жалобно, как одинокая, потонувшая в снегах собака. От неожиданности Капитолина отринулась, дрожащей рукой перекрестила воющего в темноте гостя.
— Что это ты, касатик? — спросила, приходя в себя. — Чай, не пес, выть-то!..
Геннадий Витальевич наконец замолк, выбрался из подушек, отодвинулся в угол постели; Капитолина слышала, как, тяжко посипывая и посвистывая, он вбирал в себя воздух, будто горло у него было в дырьях.
— Что притих-то? — осторожно осведомилась она.
— Астма у меня, — пожаловался уполномоченный.
— Не мужик, что ли? — уже смелее спросила Капитолина, придвигаясь.
— Ради бога!.. — взмолился уполномоченный. — Я… я не способен, — добавил он упавшим голосом.
— А жена пошто? — Подозрительно спросила Капитолина; еще с девичества, когда только-только она начинала кое в чем разбираться, жизнь научила ее не доверять таким вот тихоням: наговорят, с ничего натворят да и улизнут…
— Ну, поверьте же! — дрожащим голосом сказал Геннадий Витальевич. — А жена… Вы же понимаете, я давно женат. И время сейчас не то. Всё на нервах. И пища, сами знаете, картошечка…
«Картошечка! — в мыслях передразнила Капитолина. — А за столом жрал, как боров…»
Она окончательно утвердилась в том, что перед ней тихоня из тех, кто за разговорами умеют увернуться, решительно придвинулась, обхватила тощие бока уполномоченного, проговорила зловеще:
— Ты, касатик, не крути. Коклетами тебя зря кормила, что ли?.. Брюхо-то набил, а благодарить дядю пришлешь?!
Чувствуя под руками живое мужиковское тело и оттого помутившись умом, Капитолина рывком повалила уполномоченного в подушки.
На этот раз Геннадий Витальевич неожиданно проявил твердость и силу — вдруг окрепшими руками он свалил с себя бабью тяжесть, соскочил на пол.
— Зажгите немедля свет! — приказал он голосом такой неподдельной властности, что Капитолина притихла. Где-то в глубине постели она соображала, насколько серьезна и опасна перемена, случившаяся с уполномоченным.
— Зажгите свет!.. — повторил Геннадий Витальевич, и Капитолина, вся превратившаяся в слух, не уловила прежней властности в его голосе. Успокаиваясь, она деланно вздохнула, ответила из темноты: