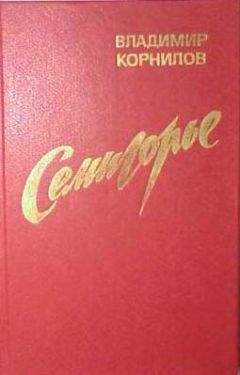Владимир Корнилов - Годины
Васенка быстрым движением придвинулась к лампе, читала писанные старательно, убористыми буквочками слова и слышала в замеревшей избе многоносое настороженное сопение с печи, вызывающий своенравный постук карандаша о Нюркины зубы, не то жалобный писк, не то придавленный в горле Маруси плач, готовый вот-вот прорваться криком, и, чем дальше читала, тем неуступчивее делалось ее сильно похудевшее в постоянных заботах и несытости и все-таки не утратившее привлекательности лицо. Письмо она не вернула: сложила вполовину, потом в четверть, подложила под локоть под оторопелым взглядом качнувшейся Маруси, твердо сказала:
— Не солдату, не на фронт письмо писано… Солдату такое письмо не надобно!
Она ожидала и крика, и ругани, потому не пошевелилась, только чуть сузила глаза, когда Маруся, одним махом скинувшая себя с табурета, оказалась перед ней, простоволосая, растрепанная, с поднятыми к лицу руками. Будто сглатывая силу своего обычно пронзительного голоса, она прошептала:
— Как это не надобно?.. Как это не надобно? — спросила она уже в голос со зловещим движением сжатых в кулачки рук. — А как я отмолюсь перед им, когда он, свет моей жизни, Василий Иванович, в дом войдет и ни детишечка не узрит?! А ну, дай сюда листок, не греши, председательница! Каждый со своим горем обнимается. Иди горюхайся со своей Ларкой. Сберегай, чтоб потом мужик батогом на твоей спине не отыгрался!..
Маруся норовила вырвать листок. Васенка руки не отняла, крепче придавила к столу. Тогда Маруся пронзительно взвизгнула:
— Подай письмо, окаянная! — и ногтями, с кошачьей яростью, вцепилась в Васенкину руку.
Васенка, не уступая письма, поднялась, скрывая боль, прошлась по избе, остановилась напротив Нюры.
— Ты хочешь, чтоб Василий Иванович получил такое письмо? — спросила, едва удерживая дрожь напряженного голоса.
Нюра вскинула испуганные глаза на Васенку, на мать, потупилась; бледные, почти белые щеки и прямой, высокий, всегда чистый лоб, так нравившийся Васенке, окинуло пятнами волнения. Нюра понимала мать, жалела и все же собралась с силой, сказала, не поднимая глаз:
— Не будем, мама, сердце у нашего бати травить. Без того беспокойно там. Как-нибудь… — Голос ее пресекся, она сглотнула, в твердости договорила. — Как-нибудь проживем, мама.
Васенка оборотилась к печи, без прежнего напора, дрогнув голосом, все же спросила:
— А ты, Миша?
Миша заворочался, с ним вместе и быстрее его заметалась по слабо освещенному потолку большая его тень, он выпростал из-под себя руки, обхватил одной другую, будто для твердости, угрюмо сказал:
— Кабы его домой по письму пустили! А с войны не пустят. Что уж, только переживать будет…
Васенка поняла, что даже в согласии с ней старшие Петраковы в своем горе, в последней своей надежде равно уповали только на добрую силу своего названого отца. Вместе с письмом она отбирала последнюю их надежду и, поняв это, положила письмо на стол.
Маруся, видя, что Васенка отступилась, отошла от стола неверными шагами, опустилась на свой табурет, откинула растрепанную голову к печи, сказала:
— Вчерась в городе была. Хлеба притащила. Кусок. На всех пустопузых поделила. Сглотнули. Не осилила им сказать. А теперь при них сказываю — у собаки, у пса бродячего, тот кусок вырвала… Где он, пес тощий, лопоухий, тот кусок выкрал, догадать не могу. Видела, в городе не слаще нашего. Вот, добыла… Скормила…
— Мама! — Нюра от стыда и унижения закрыла лицо руками, уткнулась в стол. На печи притихли, будто вымерли.
Знала Васенка, как живут бабы, детишки и старики во всех семидесяти шести домах Семигорья, знала и то, что семейство Петраковых держалось только на коровенке, купил которую перед войной сам Василий Иванович. Но такое не могла даже в мысли пустить. Стояла потрясенно посреди избы, пальцами сдавливая виски, как будто задерживая чудовищно разрастающуюся в ней самой чужую боль, потом прошла своей неслышной походкой к лавке, села у стола, где прежде сидела, сказала решительно:
— Вот что, Маруся, по делу пришла ведь. Договорились с руководством: Валюшку и Верочку в Дом возьмут. Будут вместе с эвакуированными детишками жить, питаться. Валюшку к классу прикрепят, там и учиться будет. А Нюра с Мишей уж как все — в колхоз. Для войны потрудятся. Для себя что-ничто заработают…
— Это что же, при живой матери — в сироты?.. — заносчиво спросила Маруся.
— Мама! — в отчаянье крикнула Нюра, даже прихлопнула рукой по столу. — Не там гордость проявляешь!
Васенка знала, что Марусю напугали неминучие деревенские оговоры, и без досады подумала, что бабы не перестают ее удивлять. И эта вот: немужняя — детей рожала, от деревенских сплетен подолом отмахивалась. А теперь, когда ее же ребятишек спасать пришли, славой озаботилась! Но тут же, второй мыслью, сумела догадаться, что не деревенский оговор беспокоит Марусю; после того, как, на удивление всем, вошел в ее дом Василий Иванович, преданней, заботливей бабы, чем Маруся, нарочно ищи — не сыщешь. Не гордость окинула ее — боялась, как посмотрит на сирот при живой матери свет ее очей Василий Иванович. Потому Васенка пристрожила себя, сказала, убеждая:
— Разве в Доме все сироты? Еще неведомо, сколько отцов к ним повозвращается!.. В войну, Маруся, все для нас равны: и сироты, и те, которые под материнской рукой. Живы бы только были!..
Маруся нахмурилась, шевелила губами, но Васенка видела, что слова ее нашли нужное место в недоверчивом уме, думала: «Одно ого́рили. Теперь бы с письмом этим нехорошим довершить…»
Белевшее на пустом столе письмо и теперь беспокоило: уж больно страдало ее сердце за тех, кто в неведомых краях дрался с ворогом; не могла она отступиться в таком деле, как спокойствие солдата за свой оставленный дом.
Думая о письме, вроде бы без умысла попросила:
— Нюр, что-то запамятовала, о чем наказывал Василий Иванович в прошлом письме? Не прочтешь?
По сверкнувшим живостью глазам, по готовности, с которой Нюра поднялась и потянулась к еще довоенной большой фотографии, вставленной в светлую, из дощечек, рамку, где озабоченного Василия Ивановича сняли рядом с мордой коня, по тому, как, ревностно следя за Нюрой, зашевелилась на табурете Маруся и на печи враз поднялись головы пустопузых, Васенка поняла, что спросила правильно.
Нюра вытянула из-за рамки сверточек в холстинке, положила на стол, любовно раскинула концы, взяла верхний треугольничек с карандашной крупной адресной надписью, бережно, будто расколупывала яичко, вытянула запрятанный вовнутрь край, развернула, длинными, чуткими пальцами разгладила на столешнице. Поглядела в радостном ожидании на мать, села, огородила руками листок, сдерживая рвущийся в звень голос, стала читать, сызнова сама вникая:
— «Из дальней стороны шлю тебе, Маруся, и всем детям: Нюре, Мише, Валюте, меньшой Верочке — свое слово и отцовское благословение. Ивана нашего, как ни выглядываю по дорогам и становищам, среди встречных мною солдат покуда не углядел. Да и то сказать: среди многих тыщ, что вокруг копают, ходят, справляют свое ратное дело, отыскать Ваню возможности мало. Надежды, однако, не теряю, потому как земляки в нежданности всё же объявляются. Беспокойства ныне меня одолевают. Одно беспокойство унес от порога и не изживу, видать, покуда к порогу не вернусь, — это вы все, от меня нераздельные, и жизнь ваша, отсюда мне не очень видная. Обнадеживаюсь думой, что лад в семье вы сберегаете, как самое первое благо, от коего зависит все прочее. А как сажусь за котелок солдатского варева, так рука с ложкой опадает. Думается: не в свой бы рот ложку нести. Опишите в точности, что за еда готовится у вас в печи и что каждому перепадает со стола…»
Нюра в этом месте отвлеклась от письма, со взрослой обеспокоенностью глянула на печь, где в полутьме обозначились недвижные лица меньших, словно навешанные в черноту портреты, — видно, показалось ей, что в письме надобно что-то опустить. Но тут же, сдвинув строгие брови, снова склонилась над столом.
«Душа держится на месте только думой о Краснухе, — Васенке чудилось, что теперь с трудом, в упрек ей, считывает слова Нюра. — Она не даст вам погинуть ни при какой другой нужде. Накосили ли сколько надо? Ежели по той погоде, что здесь в лето была, то травы ныне, должно быть, и у вас были укосны. Про сено мне опишите. И кто что делал на косьбе, кто лучше других оказался.
Опишу и другое мое беспокойство. Хотя от Волги — нашей матушки — фашиста хорошо и далеко отогнали и мы тут уже глядим на сплошь порушенные белорусские деревни, однако же в думках своих так и сяк прикидываю и вижу, что победное замирение случится еще не вдруг. Тыщи верст до этого самого Берлина, от коего зародились все наши нынешние беды, и, хоть огня стало у нас теперь больше, чем у немца, и силы много, несравнимо с прошлыми годами, все же пройти тыщи верст по страдалице-земле да супротив черной силы — срок долгий. Упреждаю о том Вас, чтоб себя по-нужному настроили, чтоб хозяйство вели с бережливостью. И Васене Гавриловне о том передайте. Когда наперед все обдумаешь, сготовишь себя к долгой дороге, оно и идется легче. И главное — без рыва. В какой обувке кто ходит? Сделан у меня тут припас, вроде бы для Миши, а может, и для тебя, Маруся. Лейтенанта молоденького с боя вынес, с ногами сильно побитыми. Сапоги пришлось спороть. Он мне их вроде бы в память и оставил. Сшил их обратно. Мне не носить, не по ноге. Берегу с думой о доме. Политрук наш, добрый человек, хотел помочь переслать, да не успел, не оберегся, сердечный. Может, кто еще догадается из командиров помочь. Тогда сами решите, без обиды, кому носить. Еще раз наказываю, чтоб друг друга берегли, и особо вы, дети, заботьтесь о матери — Марусе. Без ее и вам ходу не будет. А доля выпала ей нелегкая. Всем по череду головки глажу, обнимаю. Маму Марусю целую. Поклоны мои, всем добрым людям семигорским и техникумским — тоже. Отец ваш и солдат Василий».