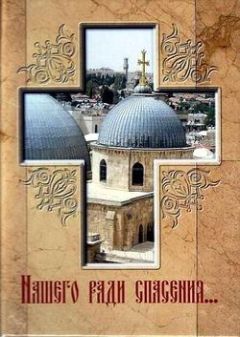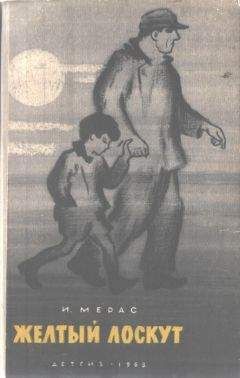Юлиан Шульмейстер - Служители ада
Как завороженный глядит Ландесберг на медленно опускающуюся петлю. Проплыла мимо глаз, остановилась у шеи. Один конец веревки пропущен через блок, прибитый к ветке высокого тополя, другой — в руках начальника службы порядка Гринберга. Как всегда, старателен, он преданно и выжидательно глядит на гауптштурмфюрера. Неужели потянет веревку?.. Веревка! Скользкая, холодная, змеей обвилась вокруг шеи! Еще мгновение — и будут покончены счеты с напрасно прожитой жизнью. Хоть встретит с достоинством смерть, на это сил хватит. Быстрее, быстрее!
Взмахнул Эрих Энгель рукой — натянулась веревка. Медленно, очень медленно ползет вверх, ноги оторвались от табурета, огненный обруч сдавил горло, загудело в ушах, в тумане уплывают дома…
Ландесберга долго приводили в сознание — отливали водой. Пришел в себя: лежит на мостовой, висит над ним все та же петля, конец веревки у Гринберга. Неужели опять? Нет-нет, помиловали… И не вешали, только пугали. Гринберг силен как бык и бессовестен, приказали бы вешать родного отца — без команды не выпустил бы из рук веревку.
Эрих Энгель нагнулся над Ландесбергом, усмехнулся, взял руку, проверил пульс. Выпрямился и сказал, чтобы все слышали:
— Столько накопили грехов, что даже Гринберг не выдержал. За верную службу…
«Сейчас объявит… Пусть так, пусть как угодно, но жить… Жить, жить, жить!». — С нарастающим ужасом глядит Ландесберг на петлю. Ему кажется: она вновь обвилась вокруг шеи, безжалостно сдавливает…
— За верную службу, — продолжает Энгель после длительной паузы, — Гринберг будет вешать с помощником. Два еврея, думаю, перевесят одного своего председателя.
Нет больше главного еврея львовского гетто, на табурете стоит трясущийся человечек. Кричит, горечь смешалась с мольбой:
— Служил верно, как собака, погубил всех львовских евреев — и такая расплата!
Все же оказался прав не Силлер, а он, Эрих Энгель. Пыжился главный еврей львовского гетто, повидался со смертью и униженно выпрашивает свою никчемную жизнь.
— Служил как собака и умрешь как собака, — презрительно процедил Эрих Энгель. — Действуйте, Гринберг, пусть вознесется к еврейскому богу душа начальника львовского гетто.
Висит Ландесберг у окон своего кабинета, дернулся несколько раз и затих.
Впились в Гринберга выпученные глаза Ландесберга, и ему предвещают страшные муки. Не пощадили самого председателя! На что надеяться, как дальше жить? — пробежал по телу электрический ток, себя успокаивает: — Пусть другие дрожат, когда вешают юденратовцев и полицейских, мне дрожать нечего. Это же я, главный советник коменданта львовского гетто, без всяких сантиментов и жалости решал и буду решать, кому жить и кому умереть. «Ландесберг сломался, за это сдохнет!» — сказал Эрих Энгель. А я не сдохну! С юных лет усвоил железное правило: «Хочешь чего-то достичь — шагай по трупам!».
2.Униатская крепость возвышается над истерзанным городом, толстыми стенами оградилась от горя и слез. Стоят друг против друга храм святого Юра и митрополичий дворец. Тут тишь и благодать! Ласкают глаз изумрудные блестки девственно чистого снега. Теплотой и уютом светятся окна святой обители.
В библиотеке на бесчисленных полках выстроились книги. В толстых кожаных переплетах — латынь, в золотых — немецкая готика.
В кресле с колесиками сидит старец, монументальный, как храм. Седая борода ниспадает на черную рясу, под ней распятый спаситель. Взывает Христос к отрешению от всех мирских дел, а крест — из червонного золота — ничтожной доли богатств митрополита, графа Андрея Шептицкого. Золото! Красивой оправой обрамляет глаза — умные, наблюдательные, властные.
В другом кресле сгорбился раввин Львова Давид Кахане — худощавый, с изможденным лицом, в измятом черном костюме.
Между ними молчание — тягостное, мучительное, настоянное на думах о прошлом, — думах, столкнувшихся с нынешним днем.
Для митрополита Давид Кахане — тяжкое испытание совести. Господи! Как сочетать земные дела и небесные? Не убий! А евреев каждый день убивают, всех подряд — женщин, мужчин, детей, стариков. Синагоги в развалинах, свитки торы осквернены и растоптаны. Тора — пять Моисеевых книг божественной библии! Творение божье и слово божье распинают и жгут, а он благословляет святотатцев и убийц… Благословляет не на богопротивное дело — святым крестом освящает борьбу с большевизмом, разрушающим веру. А можно ли благословлять разрушающих основы христианской морали?
Митрополиту вспоминается посещение Рима летом 1933 года. В курии велись горячив споры о конкордате, подписанном 20 июля папой Пием XI и вице-канцлером Германии Францем фон Папеном. Среди высшего духовенства имелись противники соглашения, Гитлер являлся весьма неудобным, даже неприличным союзником. Его можно было использовать, он был нужен, но открытый союз компрометировал папу перед многими верующими. И если все-таки конкордат подписали, это была заслуга статс-секретаря папы кардинала Эудженио Пачелли, нынешнего папы Пия XII. Заслуга ли? Возвращаясь из Рима в Берлин, фон Папен выступил на конференции студентов-католиков в бенедиктинском монастыре в Мариаллах, Тогда, пожалуй, Папен верно сказал, что святой отец пошел на соглашение с Гитлером лишь во имя борьбы с большевизмом и безбожием. Во имя! Все же надеялись, что Гитлер станет действовать более прилично, соблюдать такт, необходимый для христианского государства. Не тут-то было, Гитлер закусил удила. Всю курию возмутила бестактность выскочки при приеме германских епископов. Издеваясь над ними, Гитлер кричал: «Тысячу лет вы были проводниками антисемитской политики, я — ваш ученик, мне дано совершить то, что вы не сумели». Не сумели! Как он, митрополит греко-католической церкви, относился к евреям?
Рука тянется к полке, берет малоприметную книжицу. На серой бумажной обложке выделяются большие черные буквы: «Социалисты и евреи». Издана книжица в 1900 году — памятном, в этом году стал львовским митрополитом. И книжица памятная, первая в его униатском издательстве. Претили примитивные мысли и примитивные способы их изложения, но с чернью надо было разговаривать на доступном для нее языке. Тогда, как и ныне, стояла все та же проблема: как оградить от гибели устои цивилизации?
Листает митрополит пожелтевшие страницы — ровесники молодости.
«Антисемиты — это люди благонамеренные, стремящиеся создать своим трудом состояние», — прочел и взглянул на раввина. — Такие же благонамеренные евреи, теми же способами создавали свои состояния, а в брошюре написано: «Евреи напустили на антисемитов свору социалистов, жаждущих обогатиться их собственностью». Собственность — вот в чем корень проблемы. А евреи? На пороге могилы, как ни горько, надо признать: нужна была жертва — отдушина для народного гнева. Ничего не поделаешь, господь пожертвовал сыном. Всем божествам всегда приносились бесконечные жертвы. Не поэтому ли за сорок два года его митрополитства униатская церковь выпустила сотни подобных книжонок, брошюр, прокламаций?». Кто мог подумать, что дойдет до такого? Ничего не поделаешь: выше ставка — большим приходиться жертвовать. После захвата Европы Гитлер решил уничтожить большевизм — Россию. Ради этого надо терпеть… Победят Россию, наступит извечный порядок. Евреи или извечный порядок! Иного выбора нет! Но где взять силы, чтоб не захлебнуться в океане человеческой крови? Как об этой дилемме сказать Кахане? Как признать, что на нем, митрополите Андрее, кровь невинных людей? На нем ли? На нем! Это же он писал своей пастве: «Победоносную немецкую армию приветствуем с радостью и благодарностью…». Это же он требовал от священников в благодарственном богослужении просить у господа бога многие лета немецкому воинству. Многие лета! За год этим воинством перебиты почти все евреи. А сколько христиан? Призрачна тишина библиотеки: ее разрушают письма мирян и священников. Не вправе отгородиться от них, но и читать невозможно.
Повернулся к столу, стопкой лежит почта дня нынешнего — слезы и горе людское. Не только слезы, не только горе — ненависть. Вот письмо Тимофея Лабы:
«Преосвященный владыко!
Прошу выйти на улицы и увидеть, как ваши герои крепко воюют, как прекрасно истязают беззащитных стариков и детей, а вы не отзываетесь. Прошу пастырским посланием богословить и укрепить в истязаниях. В каждом выстреле слышу славу вашего великого святого имени, которое не исчезнет в веках».
Сложил письмо, аккуратно положил на стопку других, надо отбросить все несущественное, вновь обрести силу духа. Лаба смотрит из своей подворотни: не в его возможностях большая политика. И письмо пропитано злобой — может, погиб его сын или другой близкий родственник? Прощает Лабе, клевета не может его запятнать, он, митрополит, не причастен к истязаниям и выстрелам. А кто назвал верными слугами церкви людей Бандеры и Мельника? Не призывал их к убийствам, такого душа не приемлет. А может ли прямо и честно осудить за убийство, написать так, как ему пишет Лаба: «Бабушка учила: люби всех людей, один бог их создал»? Не может, это равносильно осуждению немецкой политики. А как ответить монахине Авксентии? Просит бога внушить Гитлеру, чтобы прогнал всех безбожников, чтобы отделил жидов от христиан, разрешил жить лишь в «отдельном месте». Вот Гитлер и нашел для них «отдельное место»! Может ли ответить Авксентии так, как Лаба ему написал: «Люби всех людей!»? Не может, богословит сестру во Христе…