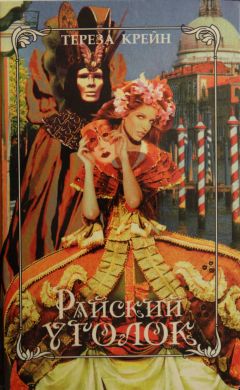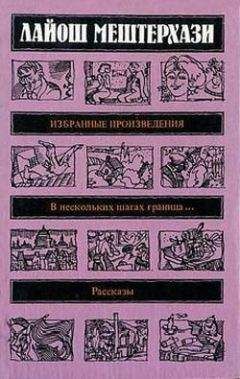Семен Близнюк - В лабиринте замершего города
В синих сумерках 14 января подпольщики, захватив большой немецкий обоз с продовольствием и уничтожив «фортшутц», ушли к партизанам Наумова…
Впрочем, о дальнейшей судьбе народогвардейца придётся рассказывать в следующем очерке: военные судьбы закарпатского Икара и львовянина Михаила Веклюка удивительно переплелись…
ИКАР, В КОТОРОГО СТРЕЛЯЛИ
«Дорогой незнакомый Икар!
Вы воскресли из мёртвых, вызвав у всех честных людей восхищение своим подвигом. На вашем примере должны учиться наши дети быть верными своей Родине.
Эдуард Вайнюнас, г. Вильнюс».«Дорогой товарищ Пичкарь!
Только что видел Вас по телевизору на «Огоньке».
Ваша жизнь в тылу врага была соткана из приключений.
Своей опасной работой Вы приближали светлый день Победы.
Подвиги разведчиков не забываются.
Крепко жму Вашу мужественную руку!
Николай Хохлов, г. Хабаровск».I
Икар приподнялся, и сразу какие-то раскалённые клещи впились в его затылок. Боль опрокинула навзничь, красной паутиной затянуло глаза. Он пытался смахнуть эту паутину и удивился, почему она тёплая и липкая. Но тут по рукам резонуло пилой, нестерпимо сдавило грудь — будто легла поперёк неё подпиленная ель. Почудился запах хвои…
Лязгнула дверь. Он приоткрыл веки, увидел мундир и сразу всё вспомнил.
Надзиратель поставил на пол жестяную кружку:
— Можешь пить!
Мгновенное воспоминание обожгло Икара, он попытался сесть и опустил на цемент ещё ощутимую правую ногу.
— Кофе! — нарочно громко сказал надзиратель и покосился на открытую дверь. — Пей! А пообедаешь уже на том свете. После полудня. Понимаешь?
По спине пробежал холодок: «Значит, казнь. Значит, ничего им не сказал, ничего! Если бы хоть что-нибудь узнали — тянули бы из меня жилы дальше. Как из того лондонского радиста, о котором прошёл слух в подполье: не выдержал, сдался — потом немцы включили его в радиоигру, пока под Шумавой не выловили десантников. Тогда того радиста кинули к ним же в камеру…»
И вновь обожгла мысль: «А если в беспамятстве я простучал для них настоящие свои позывные, а не сигнал тревоги, и теперь они сами выходят в эфир? Нет, нужен мой почерк, без почерка игра не пойдёт…»
В первый раз внимательно взглянул на надзирателя. Спросил, сам удивившись незнакомому охрипшему голосу:
— Какой сегодня день?
Долговязый стоял у двери, побрякивая ключами. Перехватив взгляд узника, он опять же громко, словно глухому, крикнул:
— Дни нечего считать — ты часы по пальцам пересчитывай. Недолго тебе, москвичок, осталось. — И вдруг бросил чуть слышно:— Пятое мая. Держись…
Выглянул в коридор, вышел, захлопнул дверь.
«Всё же они считают меня русским, — подумал Икар, потянувшись к кружке. — А почему он сказал: „Держись?“ Что тогда означает — „недолго осталось?“ Интересный этот надзиратель. Очень интересный. А если провокатор? Но тогда зачем столько предупреждающей информации?»
Мысли путались, он никак не мог найти надёжного ответа. Тогда себя заставил не думать о том, что произойдёт после полудня. Закрыл глаза, pi воспоминания — пронзительно острые, от которых даже перехватывало дыхание, — нахлынули на него, как горный поток. Казалось, снова чувствует запах смерек и видит бурлящий в половодье Шипот. Наверное, правда, что в момент перед казнью у человека перед глазами проходит вся жизнь. Что же было в ней, в его жизни, что?
* * *…Глухо ворчит израненный лес. Белые пни просеки захламлены хворостом — ни проехать, ни пройти. Но по Деревянному жёлобу-ризе — беспрепятственно летят с горы колоды. Посредине склона, у изгиба ризы, стоит он, Дмитрий Пичкарь — ловко орудует цапиной[5], подгоняя колоды.
— Гей-гов, Илько, лови!
Бревна мчат почти впритык. Нужны ловкие руки, чтобы успеть вовремя подправить колоду и не дать ей выскочить из ризы. И надо быть крепким, как дуб, чтобы вот так, не разгибая спины, до вечера выстоять у желоба. А когда непогода — застонет лес, взъярится Шипот, затянет прореку низенькими тучами — каково лесорубу?
И мелькают в памяти картинки босоногого детства, как короткие просветы в тёмных облаках. Сколько лет было ему, когда пошёл по хазяевам — пас чужих коров? Семь, наверное, не больше. Четверо детей в хате, он самый младший был, да и то послали зарабатывать на хлеб. А сколько лет минуло ему, когда начал рубить лес для «Сольвы»? Кажется, восемнадцать. Вот он поднимается раньше петухов, одевает серак и, прихватив торбинку, бежит за село, вскакивает в вагон узкоколейки. С лязгом тащится порожняк наверх, а он с хлопцами поёт. Ведь молодой, здоровый.
Дни были похожими, как в лесу деревья. И когда лесорубы садились пообедать, им уже не пелось — слышался печальный, неторопливый разговор. А разговор шёл один и тот же: и раньше здесь была нужда, и нынче — нужда. Вечная она, что ли, как эти горы?..
Шла лютая, голодная зима 1932 года.
Коммунисты организовали «голодный поход». Ранним утром толпа верховинцев вышла из Турьи Быстрой и направилась к Перечину. По дороге присоединялись безработные из Турьих Ремет, Симерок. Несли красные знамёна, лозунги: «Хлеба!», «Работы!», «Земли!». Дмитро шагал со всеми. Ветер кидал в лицо колючий снег, цепенели от холода руки. Но люди шли…
Перед Перечином, у моста через Уж, шествие голодающих преградили жандармы. Офицер-поручик крикнул:
— Это беспорядок! Разойдись!
Колонна продолжала двигаться вперёд.
— Взвод, в штыки! — скомандовал поручик. Дмитро понял — надо обхитрить жандармов, перекрывших мост. И крикнул товарищам:
— Наверное, лёд крепкий. Пойдём врассыпную прямо через Уж.
Жандармы били демонстрантов резиновыми дубинками. Дмитро схватил булыжник, но досталось и ему: привезли в село на санях.
Хозяин фирмы выгнал Пичкаря с работы. А в хате — ни хлеба, ни картофеля.
Организаторы похода приметили парня… В те дни на Свалявском лесохимическом заводе объявили стачку. Потухли реторты. Хозяин «Сольвы»—немец Шпиц—спешно набрал штрейкбрехеров. Стачечный комитет собрал в ответ надёжных людей. На берегу Латорицы, у заводских заборов, горели костры: здесь дневали и ночевали пикетчики, посменно охраняя проходные.
Впервые стал на боевой пост и Дмитрий Пичкарь.
* * *Вот-вот жандарм хлестнёт по лицу. Он рванулся, чтобы отвести голову от удара, но опять тупая боль привела его в себя. Открыл глаза. Потолок качался. Сквозь узкое окно, затянутое решёткой, по-прежнему струилось майское утро. Оглядел камеру и, чтобы отвлечься, стал мысленно измерять её: от двери до окна — шагов семь — не больше, три шага будет в ширину. Заметил стол. Даже полка есть. Полотенце. Горько усмехнулся: «Все удобства для смертников». Перевёл взгляд на стенку у нар. Совсем низко было нацарапано: «Правда витези!»[6], «Аве, Мария»[7] «Виват СССР!», «Смерть фашистам!» чуть повыше — пятиконечная звезда. Икар посмотрел на опухшие пальцы. Расписаться бы: «Оттакар Вашал». А что? Хорошая идея — подтвердить «легенду»…
Но скрипнул засов на смотровом окошке. Мелькнуло лицо старшего надзирателя. Этот скрип раздавался время от времени: охрана была обязана внимательно следить за приговорёнными к казни. Откуда-то слева, приглушённый стенами, донёсся страшный крик.
Икар попытался опять привести в порядок свои мысли. Допрашивали не здесь — это он запомнил. Тащили по коридору, потом по двору, потом везли в машине. Там, где его допрашивали, было душно и темно. Только над зубоврачебным креслом, к которому пристёгивали узников, мерцала слабенькая лампочка. И ещё там были деревянные тиски… для ног. Ещё делали «маникюр» — загоняли под ногти раскалённые иглы. Это была «Печкарня» — здание гестапо, где пытали. Здесь — тюрьма. Камера-одиночка. Значит, Панкрац. Значит, все понятно — надзиратель его не стращал, когда сказал, что скоро казнят.
Снова открылась дверь.
«Пришли за мной? Но вроде бы рано. Разве уже после обеда?»
Надзиратель молча вытянулся у входа. В дверном проёме показалось узкое лицо.
«Тот самый лейтенант, который стрелял в меня на Михельской улице. А кто это с ним?»
Вместе с лейтенантом вошёл штатский — он тоже брал его на вилле. А тот, в тёмном плаще? Круглое красное лицо… Где же я его встречал?..»
Лейтенант раскрыл папку. Штатский сказал по-чешски:
— Нам все о вас известно, пан Вашал… Никакой вы не Вашал. Пани Ружена во всём призналась: вы готовили диверсию на вокзале. Иозеф арестован. Позывные у нас. Вот они: вы — «Рак». Выйдете на связь — гарантируем жизнь.
«Вот оно что: всё же им нужна моя рука, мой почерк для игры, — узник отвернулся: пусть считают, что переживает. — Черта, лысого им что-нибудь известно. Они нашли взрывчатку и придумали сами насчёт диверсии. Я этот тол в кровати впервые в жизни видел. Ружена — и та, знай она, что каждую ночь спит на взрывчатке, со страху бы умерла. „Рак“ — сигнал тревоги. Неужели они такие идиоты? Нет, просто им некогда, они очень спешат…»