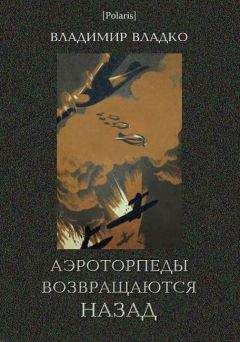Владимир Бондарец - Военнопленные
Второй — летчик-истребитель Григорий Адамов. Это крупный медвежеватый парень с чубом, постоянно спадающим на глаза. По скулам и подбородку, опоясывая лицо, протянулся широкий багровый рубец недавно поджившего ожога. В беседах он больше молчал, в споры почти не вступал, но если говорил, то под каждый довод старался подвести увесистый аргумент.
Гуров лежал, выставив в небо согнутые колени, и, смотрясь в круглое зеркальце, маленькими ножничками подравнивал бороду. Показывая зеркальце и ножницы, горько подшучивал:
— Осколки цивилизации. Дикарь подстригает бороду.
Вразвалку подошел полицай.
— Эй, борода, пойдем со мной.
— Куда?
— На кудыкину гору. Вставай!
Вернулся Гуров какой-то встрепанный, с пунцовыми пятнами на загорелых скулах. Молча лег на живот, уткнулся бородой в ладони.
— Мерзота! Зверье! Чтоб вас… — Он не выдержал, вскочил на четвереньки. Показалось — залает.
— Да в чем дело-то?
— В чем, в чем? — В глазах Гурова стояли слезы. — В жизни не переносил ничего подобного. Обидно. Зло берет. Просто лупил бы по головам…
— Кого?
— Вообще всех подряд. Подлецы!
— Начни с меня, Василь Васильич. — Олег улыбнулся, потянулся к Гурову.
— А можешь и с меня, — придвинулся к нему Адамов.
— Да идите вы к черту! Чего пристали?
— Вот это уже разговор! Теперь расскажи толком, что случилось?
— Вот и толком, — уже спокойнее заговорил Гуров. — Старший полицай решил меня осчастливить. В обмен за предательство он предложил мне место баландера. Ему, видите ли, позарез нужна информация о настроениях пленного комсостава. Вербовал в осведомители.
— А почему именно тебя вербовал? — Олег сразу посерьезнел, насторожился. — Почему не другого?
— Конечно же, не из-за моей меньшевистской бородки, — вскипел Гуров. — Земляки мы с ним. Сукин сын!
— Хорош землячок! Ему бы морду свернуть на затылок!
— Попробуй! Своя дороже! Такого махрового гада мордобоем уже не образумишь. Поздно. Да и не в нем суть. Страшно другое: наши уж очень быстро отступают. Кажись, даже быстрее, чем в прошлом году. Немцы вышли к Дону, заняли Ростов, от него повернули на Минводы — отрезают Кавказ. Если их сейчас не остановят, значит через месяц-другой выйдут к Волге. Вы понимаете, что это значит?
— Понимаем… — Адамов запустил пальцы в чуб. — Это ближайший результат нашего майского наступления на Харьков. Открыли Юго-Западный фронт. А немцы не дураки, им палец в рот не суй.
— Ну еще бы! — Олег хмуро посмотрел на Гурова и с досадой отвернулся, будто Василий Васильевич был виновником наших несчастий. — Инициатива сейчас у них. Колошматят, аж пух из нашего Ивана летит! Но ведь мы тоже готовились к наступлению! — воскликнул он зло — Я своими руками щупал новую технику, видел свежие пополнения. Где же все это?
— Воюют не только руками, но и разумом, — вставил Гуров.
— И все-таки техники у нас мало, — возразил Адамов. — Особенно самолетов. Вот если бы…
— К черту ваши «если бы», да «авось», да «как-нибудь»! — голос Гурова накалился злобой, — Тут что-то другое, чего я никак не пойму. Неумение, ошибки, роковые просчеты, судьба, наконец, или черт знает что. Но не может же так продолжаться вечно. Или нас пристукнут через два-три месяца, или война затянется на неопределенно долгое время. И то и другое меня не устраивает.
В словах Гурова слышались и горечь и печальный юмор: «Не устраивает». Будто нас устраивало, будто нам было легче.
— Тяжело, ребята. Слов нет — тяжело. Только отчаиваться рано. Да и вообще не следует, если даже в сто раз тяжелее будет. — Адамов говорил и шлепками широкой ладони будто придавливал слова к земле. — А тебе, Василь Васильич, не много же надо, чтобы перейти от белого к черному. Тебя плен не устраивает. А кого он устраивает? Страдания наши только начались, а мы уже в слезы. Что же дальше будет?
— Ни черта не будет. Подохнем…
— Подохнем или нет, а ты договорился до точки.
— До какой точки? — отмахнулся Гуров. — Стоило откровенно высказать то, что меня мучает, а вы уже клеите ярлык: «До точки». Поймите вы, мне больно, обидно не только за себя. Тошно стало! Год мы только и знаем, что отступаем «на заранее подготовленные позиции» и повторяем: «Победа будет за нами!» — проговорил он, кивнув головой за спину. — За нами… Мы от нее, а она догоняет, Только не наша победа…
— Брось, Гуров, — резко оборвал Олег. — От твоих разговоров падалью несет. Везде сейчас трудно. Нельзя заботиться только о своей драгоценной персоне. Ты пылинка. Нас четверо — уже песчинка, а если нас много, то это уже сила. Об этом и надо думать.
— Э-э-э, брось, пожалуйста, читать политграмоту. Попробуй здесь сколотить эту силу, и тебя вздернут раньше, чем сумеешь что-либо сделать.
— Так что же, по-твоему, надо сложить ручки на тощем животике и ждать у моря погоды? Чего ожидать? Пока перемрем от голода? Ты принимал присягу?
— Отстань!
— Нет, ты скажи: принимал присягу?
— А без присяги ты бы думал иначе? — спросил Адамов.
— Нет, конечно, к слову пришлось. Но вот уважаемый Василий Васильевич Гуров, — Олег шутовски поклонился Гурову, — поднял лапки один раз, а теперь поднимает их вторично. Гайка слаба. Интеллигентская слезоточивость. Плен нас не освободил от борьбы с врагом. Так или нет?
— Нельзя ли потише? — спросил Адамов.
— Да укажите мне эту борьбу, — завопил Гуров, — где она, черт бы вас всех побрал? Нет ее! Даже признаков нет. А что делать мне? — Он ударил кулаком в грудь. — Наши ушли на восток — не догонишь, а на долгие годы плена меня не хватит. Что же делать-то?
— Идите, милый человек, в лагерные кровососы. Там спокойнее всего, — тихо проговорил Адамов. — Благо приглашение получил.
Гуров даже поперхнулся, поочередно обвел нас побелевшими от волнения глазами и сразу сник.
Разговор оборвался, и больше мы к нему не возвращались.
Поздно ночью, видимо взволнованный дневной перепалкой, ко мне придвинулся Олег.
— Не спишь?
— А что? Надо что-нибудь?
Спать не хотелось. В глаза будто бросили песку. Пол давил жестко, как ребристое полено. Желтый свет фонаря отштамповал на потолке косой оконный переплет. Олег задумчиво говорил, привалясь затылком к прохладной стене.
— Я смотрю на лагерных придурков — полицаев, баландеров, старшин — и думаю: «Ведь у меня в сотню раз больше причин для измены, для того чтобы пойти на службу к немцам. Они пошли из-за брюха. У меня же причины личной мести. Отца моего чекисты «прислонили к стенке да пулю ему в лоб, чтоб голова не шаталась…»
В первую минуту я был так ошарашен, точно Олег огрел меня по голове увесистой дубиной.
— Ну, ну, рассказывай, — выдавил, наконец, я из себя.
— Не нукай. Не запряг. Придет время — расскажу.
От Олега потянуло холодком отчуждения. Я даже отодвинулся. Долго сидели молча.
На протяжении почти года фронтовой жизни Осипов был моим подчиненным. А что я о нем знал, кроме анкетных данных? Оказывается, можно иметь безупречную анкету и прикрывать ею душевную черноту. Анкета — одно, а жизнь — другое.
Как бы угадав мои мысли, Олег продолжил:
— Ты вот знаешь, что я воспитанник детдома, окончил рабфак, училище, воевал на Финском фронте. А знаешь ли ты, что мой отец при белых был комендантом порта в Новороссийске? Заняв город, красные его расстреляли прямо в порту. И свидетелей тому не осталось. Мать умерла рано. Я десятилетним сопляком пошел колесить по России. Доехал до колонии малолетних преступников. Там началась моя новая биография. Только я оторвался от тени папаши. Забыл о нем. А сейчас вот вспомнил. Ведь такое не забывается? А?
Я молчал, подавленный услышанным.
— Ты даже отодвинулся, чудак. А ведь далеко не отодвинешься — лагерь. Пойду к начальству, брякну, что ты политрук, мутишь тут мозги. Тебя к ногтю, мне — баландишки котелочек. Похлебал да и сыт. А, есть смысл? Молчишь?
Олег невесело улыбнулся.
— Только, брат, я никуда не пойду. Нет! Баста! Быть лагерной сукой? Да я себе сам вырву язык раньше, чем он начнет звонить. Ты напыжился, будто я у тебя выбил котелок с баландой. Думаешь, вру?
— Не пойму, где правда.
— Мне наплевать на батькину судьбу. Я не знал его и не видел. Нутром понимаю, что время было такое, что ежели заблудился, то получи… Вот он и получил. А меня советская власть из воришки командиром сделала. Какого же мне рожна еще надо?
Осипов долго молчал, задумчиво потирая лоб.
— Тяжело мне стало. Гуров разбередил, — заговорил он уже другим, потеплевшим голосов. — Очень тяжело. Вот и прорвалось. Выболтал тебе эту историю и уже жалею. Коситься будешь. Ведь так?
— Не знаю. Может, и не буду. Мне хочется верить, что ты честный парень. Но на кой черт ты мне это рассказываешь? Я обязан тебе жизнью и никогда об этом не забываю, однако, извини, мне надо подумать, переварить. Размяк и ты, как Василь Васильич. Он по-своему, а ты по-своему. А что, если подобные мысли станут приходить чаще? Ведь свихнуться можешь?