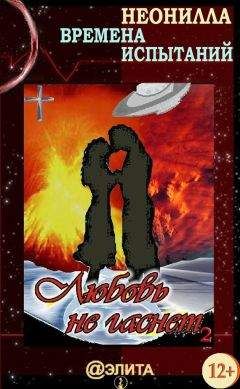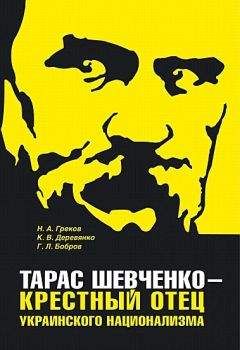Тарас Степанчук - Наташа и Марсель
А Мишка-Мишель с истерическим напором жаловался, просил, умолял:
— «Вышкой» у нас на родине назвали расстрел. Да зря я по молодости на коленях перед смертью спасовал — не она самая страшная кара. Не она! Горький хлеб на чужбине, чужой картавый разговор вместо своего родимого слова — пострашнее. Две у меня машины, слышите — две-е! Сяду в любую, до хлебного поля доеду, колос на ладонь положу — не мой это колос, и поле хлебами на ветру не по-нашему, а по-ихнему, по-французскому, шумит. Ни одной нашей березоньки не увидишь — все булонь {5} да булонь, провалиться бы им пропадом! В своем краю, как в раю, а чужой завсегда адом будет…
Но и эта кара не самая страшная. Вы господин — товарищ Демин в бога, конечно, не веруете? А в землю-матушку нашу, прародительницу нашу и начало всех начал — в нее, родимую, вы верите? Вы ж деревенский — верите? С родимой землей все во мне наиглавнейшее. Кабы мог, родимую мою землю я б сердцем целовал, она ж мягчей чужой перины, в ней и помереть — счастье!
Случайно я услыхал, что советский автомобильный босс, господин Демин, к нам по деловому интересу приехал. Без всякой радости помыслилось: на кой мне черт этот бывший взводный? А увидел вас — доброта ваша справедливая припомнилась, и враз меня осенило: только он тебя, Миша, спасти может! Детей у тебя нет, бог за все грехи не дал, женка померла — туда ей и дорога, а годы катятся, и свою последнюю черту впереди уже видать. И самая страшная кара моя — ох, как же она мертвячьим холодом душу студит, — в чужой земле, проклятым своими, одному-одинокому быть похороненным: самая это страшная кара из всех, какие только есть!
Мишка-Мишель вдруг обмяк и, всхлипнув, продолжал:
— Боялся на родине умереть человеком, подохну на чужбине безродным псом. Христом-богом тебя, взводный, молю, до последнего дня тебе благодарственные молитвы возносить буду — похлопочи за меня, смилуйся и пожалей. Любой срок на родной земле за благо приму, с покаянным сердцем приму — похлопочи за меня, взводный, штоб дозволили в родные края с чистосердечным раскаянием вернуться, великодушное прощение умолить и в землю мою смолевичскую по-человеческому упокоиться согласно христианскому обычаю. Как ляжет в нее напарник мой, Савелий, оплаканный сынами-начальничками да малыми внучатами своими. — Мишка-Мишель умоляюще протянул к Демину руки: — Дозволь, товарищ взводный мой командир, в свою землю на упокой лечь! Вместе ее обороняли — похлопочи!
В памяти Демина мелькнули полыхающие огнями «максимы» его пулеметного взвода, кипящее взрывами поле на окраине Шадрицы. А потом — жуткая лагерная тишина, деловитый по ней перестук автоматных очередей, и каравай домашнего хлеба, отброшенный на колючую проволоку немецким солдатским сапогом.
Демин крутнул лобастой головой и пообещал:
— С Савелием и его сыновьями все выясню, как положено разберусь. А что касается тебя… — Демин поднял окаменевшее лицо, взглядом отодвинул от себя Мишку-Мишеля и жестко заключил: — Предателя даже ворон не клюет… Из-за тебя погибли наши товарищи. Поэтому не будет тебе никакого срока давности, и землю, что вместе с людьми предал, родимую нашу землю, тебе не видать!
Позади, на сборке, все так же невозмутимо и плавно манипулировали роботы, похожие на металлических журавлей, и через положенное число минут и секунд с конвейера съезжал очередной «ситроен». А на соседних бульварах цвели сирень и каштаны, весело переговаривалась с ветром свежая зелень листвы.
В Париже царствовала весна.
Глава первая
Память
Туман — в начале августа?
Выйдя из подъезда своего дома, Демин с удовольствием вдохнул свежесть раннего воскресного утра. Безлюдная в эту пору улица Центральная по макушки деревьев и зданий наполнилась ватным туманом. Густой и плотный, он волнами качался, плыл на рассветном ветру, и здания, деревья казались врезанными в его молочную густоту.
По старой военной привычке Демин любит густой туман — партизанского друга и защитника от вражьей пули.
Через несколько минут серая «Волга» генерального директора остановилась у Минского железнодорожного вокзала, и Демин появился на перроне в точно назначенное время, когда поезд Берлин — Москва плавно замедлял ход и, будто по заказу, как раз напротив генерального директора, остановился спальный парижский вагон.
— Бон шанс, Командир! — крикнул Марсель из раскрытой двери.
— Добро пожаловать, друже!
Нарядная, чопорная Генриетта, как и в недавнюю майскую встречу в Саргемине, лодочкой протянула для приветствия руку и потом наблюдала, как двое седых мужчин с удовольствием загоняют ладонь в ладонь, обнимаются и что-то говорят:
— Наше утро! Туман… — мечтательно произнес Марсель.
— Наше, — согласился Демин.
На привокзальной площади сильнее подул ветер, и все настойчивее пробивались сквозь туман красноватые солнечные лучи. Невдалеке на зданиях отчетливо проступали две башни, образуя как бы ворота для въезда в Минск.
— Красивое место, — сказал Марсель, а Генриетта молча кивнула.
— Ко мне домой или посмотрим Минск? — спросил Демин.
— Мы выспались и отдохнули, — ответил Марсель. — Даешь Минск, Командир! Откуда начинаем осмотр?
— С площади Ленина.
Зданию Дома правительства на площади Марсель обрадовался, как желанному знакомому.
— Я видел этот дом в сорок третьем!
— И его перед отступлением оккупанты хотели взорвать. Но вмешались подпольщики, да и саперы наши вовремя подоспели.
— Кругом были развалины, а сейчас такой прекрасный архитектурный ансамбль! — ликовал Марсель.
Демин сдержанно улыбнулся:
— Наш «Латинский квартал»: педагогический институт, университет, мединститут.
— Это правда, что вы бесплатно обучаете студентов? — спросила Генриетта.
— Не совсем…
— Я так и знала — пропаганда! — оживилась Генриетта.
— Не совсем… — повторил Демин. — Студентам еще и платим стипендии.
— За что? — удивилась Генриетта. — Из каких фондов?
— Из государственных, — терпеливо пояснял Демин. — Лечение у нас тоже бесплатное, а стипендии — успевающим студентам и аспирантам.
— И здесь были сплошные развалины, — Марсель кивнул в сторону сквера. — Ветви этих кленов нацисты превратили в виселицы.
«Волга» будто плыла по широкой зеленой улице навстречу солнцу. Огромные здания казались тоже плывущими по волнам синеватого тумана.
Молодой водитель Николай Гринь горделиво сказал:
— Главная улица нашего Минска, Ленинский проспект. Между прочим, не хуже знаменитых Елисейских полей, хотя значительно моложе.
Николай покосился на генерального, и тот одобрил:
— Раз взялся быть экскурсоводом, продолжай.
— Парк и мемориал нашего Янки Купалы. За памятником поэту над фонтаном склонились бронзовые фигуры девчат: они пускают по воде венки — на счастье.
— Каштаны — такие же, как в Париже! — радостно сказала Генриетта.
Проехав еще несколько минут, машина остановилась.
— А эта площадь называлась Круглой, — вспомнил Марсель. — Здесь был посажен картофель, а дальше рос бурьян. И везде — развалины…
— Площадь Победы, — сказал Демин.
Разлив ярко-красных тюльпанов и гвоздик обрамлял мраморный постамент, из которого плескалось на ветру пламя Вечного огня. Казалось, именно из этого пламени устремился в небо обелиск, увенчанный на вершине орденом Победы.
Следующая остановка была на гранитной набережной Свислочи. Выйдя из машины, Генриетта заметила:
— Этому чудесному городу не хватает… старины.
— Как раз вот здесь, — показал Николай, — у слияния Свислочи и Немиги, начинался наш тысячелетний Минск. Тогда еще не было Варшавы, Берлина, Стокгольма и не была еще открыта Колумбом Америка.
* * *…Кто и когда впервые стал жить в этих местах? Уставший ратник, что пришел после жестокой сечи освежиться глотком воды из Свислочи, или мукомол, поставивший мельницу на речной излучине? А может, бортник или рыболов? Про то не ведомо никому. Легенда утверждает, будто Минск основал богатырь и чародей Менеск. Воздвиг он крепостной вал, дома, а в центре поставил чудо-мельницу «о семи колах»: «Аж берега бросает в дрожь, придумал мельник ловко — он камни мелет, а не рожь, отменная пеклевка!» А по ночам летал Менеск на сказочной мельнице над темными борами, дружину храбрую собирал, чтобы защитить дреговичей и кривичей, которые поселились в здешних местах.
Есть в «Слове о полку Игореве» такая запись, посвященная древнему Минску: «На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега засеяны были не добром — костьми русских сынов засеяны».
О многом могли бы рассказать берега Свислочи и Немиги. Как собирались менялые люди сюда, на перекресток торговых путей из Московии, Польши, Прибалтики, Украины. Как торговали они, восхищались красотой города, гостеприимством минчан. Но больше могли бы поведать они о топоте вражьих коней, о лихом звоне сабель, о пальбе и пожарах.