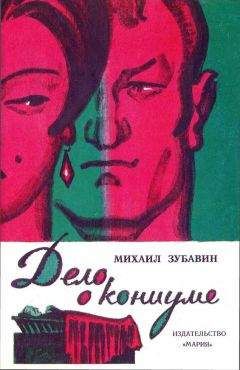Борис Зубавин - Ожидание
— Зачем? — удивленно спросил Гаевой.
— Погодите, не перебивайте. Как только санинструктор уселся, солдаты сейчас же, в порядке строгой живой очереди, подают ему через окошечко свои рубахи, и санинструктор начинает водить ногтями по швам.
— По вшам, — подсказывает Скляренко.
— Нет, по швам. Вшей-то ведь нет, — поправляю я его.
— Это мальчишество! — вскричал Гаевой. — Я буду вынужден доложить об этом подполковнику!
Не знаю, докладывал ли Гаевой командиру батальона, однако разговор о походных вошебойках больше не возобновлялся.
…Старшина принес с собою белоснежные подворотнички на всю роту, пуговицы. Прошелся по взводам, осмотрел солдат.
— Почему шаровары порваны? — спрашивал он одного. — Ты думаешь, государство тебе по десять пар за лето выдаст, только носи!
— Да я зашью, товарищ старшина. За проволоку зацепился.
— Зашью! Иди сейчас же к портному, он у связистов в землянке, тебя ждет.
— А у тебя почему нет пуговицы на гимнастерке?
— Оборвалась.
— Я знаю, что оборвалась. Почему не пришита?
— Потерялась.
— Сержанты за продуктами ходят? Заказать, чтобы пуговицу захватили, тебе некогда? Ты что такой неряшливый, командира позоришь? Держи пуговицу. А эту вот еще про запас. Нитки есть? Иголка? Живо пришить.
— А ну-ка, разуйся, — требовал он у третьего.
Солдат садится на землю, разматывает обмотки, снимает один ботинок, второй.
— Так и знал, — говорит старшина. — Приходи ко мне, я постираю.
— Чего?
— Портянки.
— Да я сам, товарищ старшина, — краснеет в смущении солдат.
— Неужели сможешь?
— Смогу.
— Ручеек-то знаешь, где протекает?
— Да знаю.
— Бочажинка там есть…
— И бочажинку знаю.
— Ну, вот и ступай. Мыло не забудь прихватить. Есть мыло? Через час доложишь. Я у командира буду.
…Старшина сидит у меня в блиндаже, сняв пилотку, почесывает топорщащуюся ежиком седую голову, рассказывает:
— Что делается, командир! Ай-яй-яй! Что делается!
В тылу скоро места пустого не найдешь, а эшелоны все прибывают и прибывают. Танки, орудия… Ай-яй-яй! Горы снарядов навалили в лесу!
— Не болтай!
— Сам видел!
Мы, конечно, уже слышали, что к нам стали прибывать свежие части. Поговаривали, будто нас будут сменять. Однако то, что рассказал Лисицин, конечно, не походило на обычную перегруппировку. Накапливание в нашем тылу крупных сил имело иное значение.
— Стало быть, скоро вперед? — спросил я, не в силах сдержать радостной улыбки.
— Так точно, товарищ командир, — вперед и никаких гвоздей! — не менее радостно подтвердил старшина. — Скоро погоним отсюда фашистов и в хвост и в гриву. А Гафуров-то, — он смеется, — опять от Тоньки своей письмо получил. И смех, и грех!..
— Слушай, старик, у тебя водка есть? — спрашиваю я.
Фронт перешел на летнюю продовольственную норму, и водку выдавать перестали.
Лисицин косится на Никиту Петровича, читающего газету.
— Немного есть, — нерешительно говорит он.
— Ты вот что, лишнюю водку Гаевому не сдавай.
— Буду я ему сдавать, как же!
— Прибереги ее к нашему юбилею. Надо будет отметить годовщину сформирования батальона.
— Слушаюсь.
— И мне не давай, просить буду, приказывать — не давай.
— Не дам.
IXТоварищ капитан, вас к телефону, — говорит Шубный.
— Кто?
— Не знаю. Очень сердитый кто-то.
Я взял трубку, и мне было строго и категорично заявлено:
— С вами говорит начальник агитмашины майор Гутман. Прошу срочно явиться ко мне на вашу противотанковую батарею.
"Так уж и срочно!" — подумал я и ответил:
— Покидать передний край я не могу. Если я вам нужен, прошу прийти сюда.
Он едва выслушал меня и повелительно прокричал:
— Вы не имеете права так разговаривать со мной. Я нахожусь на положении начальника отдела политуправления армии.
— Вы понимаете, товарищ майор, что я не могу покидать передний край? — стал я ему разъяснять. — Я жду вас на КП. Командир взвода даст вам сопровождающего, но должен вас предупредить, что местность простреливается, днем ходить опасно.
Он ничего не ответил. Мне не понравилось, что майор слишком заботливо говорил о том, какое высокое положение он занимает. Люди, старающиеся подчеркнуть свое должностное превосходство перед другими, обычно бывают неумны, трусливы, поэтому я со злорадством подумал о майоре: "Ни черта он не придет, испугается".
Однако не минуло и четверти часа, а майор уже стоял в дверях блиндажа и внимательно рассматривал меня темными, немного выпуклыми глазами, ничего, кроме гневного нетерпения, не выражавшими. Он был молод, строен, из-под пилотки выбивались черные, вьющиеся красивыми кольцами волосы. И то, что он пришел так скоро, не взяв даже с собою сопровождающего, опровергало мои представления о нем как о человеке вздорном и слабовольном. Он мне понравился.
— Почему вы не явились по моему приказанию? — строго нахмурив брови, спросил майор.
— Прошу ваши документы, — сказал я.
Он поморщился.
— Вам достаточно того, что я вам сказал.
Но я решил настоять на своем, хотя и верил ему.
— Нет, мне этого мало. Я вас не знаю.
Нетерпение в его глазах сменилось изумлением, и они как бы стали от этого еще больше и красивее. Мы некоторое время молча простояли друг против друга, выжидая. Потом майор, первый не выдержав этого неловкого молчания, как-то очень хорошо, человечно улыбнулся в смущении и показал мне свое удостоверение личности. Тогда я ответил:
— Не явился я, товарищ майор, потому, что командир дивизии не велит мне покидать передний край без особого распоряжения.
— Я вам давал такое распоряжение, — снисходительно сказал майор, оправившись от смущения и, должно быть, решив, что оно не подобает ему при незнакомом офицере.
— Этого недостаточно, — сказал я.
— Как?
— Такое распоряжение может быть дано только моим непосредственным начальником.
Он прошелся по блиндажу, потом круто остановился и, нахмурясь, сказал:
— Я, капитан, буду вынужден доложить о вашем бестактном поведении кому следует.
— Это ваше право, товарищ майор.
Он сел на нары, закурил и, ловко пустив в потолок несколько колец дыма, спросил, с любопытством рассматривая меня:
— Вы знаете, с кем разговариваете?
— Знаю.
Он остался доволен моим ответом и задал мне следующий вопрос:
— Кажется, здесь ближе всего к противнику?
— Кажется, так.
— Покажите, где я могу установить репродуктор. Ночью мы будем вести агитационную работу среди вражеских солдат.
Теперь было ясно, зачем он пришел сюда. Я с сожалением подумал, что наши с ним неласковые взаимоотношения сейчас еще больше осложнятся.
Ближе всех к противнику были окопы Лемешко и кусты между Сомовым и Огневым. Но там ставить репродуктор было нельзя. Я прекрасно знал, как ведут себя немцы в таких случаях. Когда передают музыку, они слушают внимательно. На переднем крае возникает удивительная тишина.
Не слышно ни выстрела. Но стоит диктору произнести:
— Ахтунг! Ахтунг! Дейчланд солдатен… — как у немцев поднимается оглушительная стрельба из пулеметов, орудий и минометов: они стремятся во что бы то ни стало заглушить этот голос. Пальбу они поднимают, конечно, не от хорошей жизни. Но палят все же не просто "в белый свет, как в копеечку", а именно по тому месту, где стоит репродуктор. Стало быть, если поставить его у Лемешко, там могут быть раненые, а может, и убитые; если поставить в кустах, где у меня теперь каждую ночь лежат в секрете солдаты с ручным пулеметом, — немцы покалечат их. А у меня и так людей становится все меньше и меньше: редкий день обходится без раненого, а неизвестно еще, сколько немцев майор сумеет сагитировать.
— Репродуктор ставить на моем участке я не дам, — сказал я, с тоской думая о том, как теперь будет развиваться наша беседа с майором.
— Как вы сказали? — ледяным голосом спросил он. — Я вас не расслышал. А вы знаете, какое значение имеет наша работа?
Я понял, что он прекрасно расслышал меня.
— Знаю и очень ценю ее. — Я старался быть очень вежливым. — Но ставить у себя репродуктор все-таки не дам.
Вот, если хотите, справа, между мною и соседом, есть болото, там у нас ни души, а немцы рядом. Ставьте туда репродуктор и агитируйте, сколько хотите.
Он с раздражением сказал:
— Я впервые встречаю такого офицера, который умышленно, да, умышленно, — подчеркнул он, — мешает проведению агитационно-разъяснительной работы среди вражеских солдат.
— Нет, товарищ майор, вы не так меня поняли. У нас просто разные задачи. Вот и все.
— Хорошо, — сказал он поднявшись. — Если вы сами не решаетесь выполнить мои указания, то вас заставят это сделать. Для вас же хуже будет.