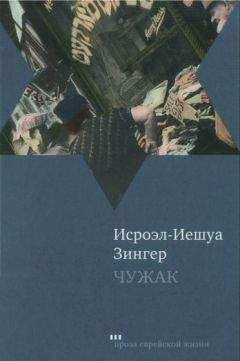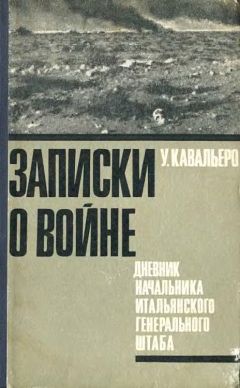Михаил Грулев - Записки генерала-еврея
Этой заботой определялась вся, так сказать, мирская жизнедеятельность. Всё же, что имело отношение к духовной жизни: взаимоотношение родителей, членов семьи, брак, семейное начало и пр. - всё это из поколения в поколение давным-давно унаследовано было в строго определённой форме, уложенной в определённые рамки, согласно требованиям религии, и поддерживалось и соблюдалось наравне с десятью заповедями Моисея.
Вне семейной близости между полами не допускалось ни в малейшей степени. Мужчины и женщины всех возрастов никогда не здоровались за руку. Знакомые и незнакомые между собою мужчины и женщины могли вступать в разговор только по делу, но не для праздной беседы; они никогда не могли бы пойти вместе, рядышком, на прогулку. Это, по меньшей мере, принято было среди ортодоксов; а другие, прогрессисты, составляли большую редкость в черте еврейской оседлости, потому, что, если бы нашлись такие отступники от общепринятых нравов, то их заклевало бы общественное мнение, а мальчишки просто отравили бы им существование.
Вспоминается мне из моего детства факт такого рода. Поселился в нашем городке откуда-то приехавший еврей-парикмахер, у которого была молодая жена. Самое ремесло парикмахера уже считалось в то время передовым и либеральным, - потому что кто же тогда чувствовал потребность в этом искусстве, в особенности среди евреев, когда можно было стричь друг друга без всяких парикмахеров, домашним способом, - схватив одной рукой щепотку волос и подрезав её ножницами; претендовать на стрижку «под гребёнку», - это было уже неслыханным франтовством. Естественно, что появление парикмахера было уже большим новаторством; и неудивительно, что парикмахер делал попытки вести себя как человек передовой, и однажды позволил себе наедине, у себя дома... поцеловать свою жену. На его беду мальчуганы подсмотрели в окно эту супружескую вольность. Бедному парикмахеру потом долгое время проходу не было от атак и освистков еврейских мальчуганов-озорников за такое нарушение еврейских нравов.
Я выше заметил, что не знаю, чем объяснить этот ригоризм в семейном и супружеском отношении в еврейском быту. Думается мне, однако, что объяснение тут есть, и оно вполне психологического характера. Долгими веками в еврейском мироощущении выработалось горькое сознание - увы, вполне обоснованное, что евреи - пасынки в семье народов, что они изгнанники, в вечном плену («го-лес»), что радость и счастье жизни не для них; что не к лицу еврею амурные нежности.
Даже скромное открытое веселье считалось предосудительным. Вот для характеристики ещё одно воспоминание из моего детства. Появились в нашем городе евреи-лесопромышленники, которые хорошо зарабатывали; поэтому, на общем фоне безысходной еврейской нищеты, они прослыли богатеями и денежными аристократами. Однажды один молодой лесопромышленник вздумал «кутнуть», т.е. вместе с товарищем стал распивать бутылку наливки, закусывая жареным гусем. Придя в весёлое настроение от выпитой наливки, молодой кутила засучил вдруг немного укороченные фалды своего лапсердака и пустился в пляс. Присутствовавшие при этом два-три посторонних свидетеля-еврея пришли от такого необычайного зрелища в неописуемое изумление: еврей веселящийся, даже пляшущий, не в праздник «симхас-торе» (Радость-Торе - день ежегодного праздника, когда еврею не только разрешалось, но он обязан был веселиться), а в будний день! Присутствующие были крайне шокированы таким непристойным поведением.
Так это было в дни моего детства, - лет шестьдесят тому назад. А вот как г. Литовцев описывает жизнь современных евреев в Палестине: «...Сложившийся в Палестине быт очень весёлый. Я думаю, нигде в мире в еврейской среде нет столько непосредственной весёлости здоровой. Много песен, хороводов, плясок, смеха. Такой стихийной радости в еврейской среде я на своём веку не видывал...» Да неужели это так!
Насмотревшись немало на своём веку всякого людского горя, пережив много лютых дней в моей мирной и боевой жизни; видя, наконец, и крушение моей Родины, я был бы безмерно счастлив на закате моей жизни видеть радость и веселье на месте горя и печали, всюду где есть люди, где бьётся любящее человеческое сердце; но, признаюсь, у меня невольно навёртываются особые горячие слёзы умиления, когда слышу, на старость лет, что луч радости и веселья заглянул, наконец, хоть в небольшой уголок обездоленной и мрачной жизни еврейского народа, в течение многих веков знавшего только плач и горе!
Продолжаю мои воспоминания из семейного быта того времени. Для женской половины, не исключая молодых и юных, не допускалось франтовства или кокетства. Конечно, родители сами выбирали женихов или невест, и юные молодожёны могли увидеть друг друга не ранее, как у брачного ложа, когда они стали уже мужем и женой.
Всегда удивлялись и кричали про плодовитость евреев. Но что же тут удивительного, если принять во внимание, что юноши или молодые люди у евреев никогда не знали женщин до своей женитьбы? Эта жгучая проблема пола, которая так остро волнует мыслителей и моралистов всех времён и народов, у евреев давно уже была решена и закреплена на практике. Разве мыслимо было в старые годы, на моей памяти, встретить еврея больного не только сифилисом, но и какой бы то ни было венерической болезнью!
В холостяцком кругу никогда нельзя было бы услышать даже при интимной беседе каких-нибудь сальных анекдотов. Это не в обычае было; да и у еврейской молодёжи просто отсутствовала всякая практика в этой области, - недоставало, так сказать, фабул для таких анекдотов, не говоря уже о том, что эта скверность строго запрещалась религией. Талмуд на этот счёт выражается так: «Всем известно, зачем идут под венец; но если кто оскверняет языковой - недостоин царства небесного» («кол гамнабэл пив ын лы хейлек л'юлам габо»).
Требование принятой морали, которые предъявлялись женщине, были ещё строже, чем к мужчинам. Девушка, которая согрешила перед браком, не только не могла рассчитывать на выход замуж, но никоим образом не могла бы оставаться в своём городе. Да это была такая редкость, что и не запомню такого случая, хотя бы понаслышке. Считалось непристойным не только какое бы то ни было кокетство со стороны женщины, но даже голос её в пении не должен быть слышен. Что бы сказали нынешние еврейские примадонны, если бы знали, что Талмуд так выражается на счёт женского пения: «Кыл б'ишо - эрво» («голос женский (в пении) - одна скверность»)...
Гигиена брака и супружеской жизни обставлены были у евреев теми же утрированными требованиями и запретами, как и все прочее в семейном и домашнем быту; потому что всё регламентировалось требованиями религии и бесчисленным множеством комментаторов, измышления которых принимались к обязательному исполнению. Достаточно сказать, что в супружеской жизни муж не должен был дотронуться, буквально, до своей жены во всё время менструационного периода. Это, конечно, чересчур строго; но - как это гигиенично и предусмотрительно с точки зрения гигиены семейной жизни!
Но вот дальше уже утрирование «Шулхан-Оруха» [3], граничащее с крайней нелепостью и бессмыслицей. Когда указанный период прошёл, муж не может сблизиться с женой, прежде чем разрешит раввин, после того как этот последний убедится, по вещественным доказательствам, что период этот действительно уже прошёл. Для этого старушки-посредницы обыкновенно прибегали к раввину - когда на дом, а иногда даже в синагогу в присутствии посторонних, и таинственно, под платком, демонстрировали вещественные доказательства. Раввин тщательно рассматривал и изучал эти следы, после чего решал, следует ли менструационный период считать оконченным или нет. Если да, то, после надлежащего омовения в «микве», жена становилась доступной своему мужу. Предоставляю критикам и гигиенистам судить, насколько это всё утрировано, дико и примитивно, но насколько это, в то же время, нравственно и гигиенично для здоровой семейной жизни. Брачный союз, как я заметил выше, решался исключительно родителями с обеих сторон. Подбор производился, конечно, отчасти по признакам социального и материального положения; но важным стимулом служила в отношении жениха его учёность - знание талмуда, а в отношении невесты - знатность рода («яхсен»): есть ли какой-нибудь раввин в близкой или дальней родне и т.п., и тогда определялась сумма приданного со стороны невесты.
Не стану описывать былые обычаи и нравы сватовства, свадебные порядки и пр. Но не могу удержаться, чтобы не сказать несколько слов о весьма своеобразной и талантливой поэзии на жаргоне, которая народилась на свадебных пирах в конце 60-х и начале 70-х годов. Важным действующим лицом на еврейских свадьбах того времени был «бадхен» - своего рода декламатор, на обязанности которого было увеселять публику остроумными виршами, каламбурами, куплетами и проч. Выдающимся бадхеном в указанные годы прославился некто в Вильно, который стал распевать на свадьбах собственного сочинения прелестные поэмы свеж собственной музыкальной композиции, полной задушевной мелодии. К его весьма талантливым произведениям относятся: «Плачь Рахили», «Почтальон», «Железная дорога» и проч., которые многие годы распевались в черте еврейской оседлости. Если бы такой талантливый поэт и композитор народился не на жаргоне, в еврейском гетто, а на языке большой нации, то он наверное прославился бы не в одном только г. Вильно. Но в бедной еврейской среде он до конца дней влачил убогую долю свадебного бадхена, - тоже воспетую им в жгучих стихах с рыдающей мелодией.