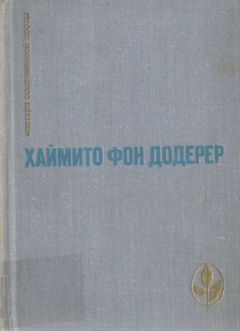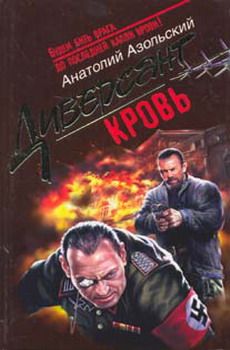Анатолий Азольский - Кровь диверсантов
И так – четыре дня, к концу которых обнаружилось: я напритворялся дохляком так, что стал им! У меня, боюсь, даже признаки туберкулеза обнаружились бы при госпитальном осмотре. Я и в самом деле не мог больше ста метров пройти на собственных ногах, Калтыгин и Алеша с ненавистью посматривали на меня, но на пользу, на пользу дела организм мой уверовал во внушенную ему легенду, потому что не иначе как из леса наблюдали за нашим ползучим маршем из одной деревни в другую: на околице нагнал нас парень, без оружия, окликнул, поговорил, сказал, кто он.
А был он тот, кого мы ожидали: тот самый грузин. Нетерпеливая натура, иссохшаяся и исстрадавшаяся в чужой стороне, где вроде бы по-русски говорят, но не совсем. Молодой парень, белозубый, мягкая бородка, усики тонкие, такие горячие ребята на контакты идут открыто, он и спросил сразу, кто тут из Зугдиди, и набросился на меня с вопросами: как там, немцы еще не на Кавказе? Отвечал я по-грузински, пока Калтыгин не оборвал: «Вы там без секретов, хлопцы!» Этот грузин Отари все о себе выложил в приступе общительности; я узнал о дядях и тетях Отари в Батуми, в Зугдиди он погостил однажды, у друга, назвал его – и оказалось, что я его знаю, он же тренировал волейболистов! И я – вот уж оказия так оказия! – вспомнил, как на соревнованиях наш уже общий знакомый Гиви Кауба после одного не засчитанного судьей мяча взял да и сорвал сетку. Отари, услышав про сетку, тут же радостно пригласил нас в отряд, на что цедящий сквозь зубы Калтыгин ответил: «Спасибо, гражданин из солнечной Грузии, но мы обжигались разными солнцами, кто вы – не знаем, пока не покажетесь…» Отари вспылил: «Нехорошо говоришь, друг!» – заодно обвинив Москву в немыслимых преступлениях: это она приказывает партизанам отбирать у населения зерно, мясо и молоко, чтоб немцам ничего не досталось! Затем приступил к главному: отряд может взять нас к себе, людей у них мало, всего семнадцать человек, ранее было много больше, но – потери, дважды попадали в засаду, приходите завтра, тем более – 6 ноября, устраивается торжественный вечер.
Ушел. Дергалась от ветра соломенная крыша, хлестал дождь вперемежку с градом, хозяйка устроилась у окна, потом пошла к куме; близилась концовка операции, начали проверять оружие, и тут-то оказалось, что доходяга, то есть я, квелым представлявшийся, чахоточным и обездвиженным, уже не вскочит с носилок и не скосит «дегтярем» всю банду, если в ней и уцелеет кто-либо после гранат и автоматов. Ни руки, ни ноги мне не повиновались, я еле дотащился до дверей, Алеша и Калтыгин совещались в сенях, решение их было бесповоротным: мне из избы – ни шагу. Лежать с автоматом в руках и ждать их возвращения.
Это было безжалостно! Да, руки-ноги не двигались, но кто поверит? Что скажу я Чеху? Что Костенецкому и доброму Лукашину? Ведь решат же, что – струсил! Как доказать, что я, вживаясь по всем советам Чеха в избранную роль, перестарался, доведя себя до изнеможения?
Я страдал. Я не спал всю ночь, во мне все горело, и на мне тоже, хозяйка ледяной ладошкой коснулась лба моего, ненадолго сняв с него жар. Утром меня поднесли к столу, но ничего не лезло в рот. В полдень предаваемые мною друзья мои собрались на бой, глянули на меня, буркнули: «Сам знаешь, что и как…» А я знал: с темнотой они либо вернутся, либо нет, и если они не появятся, то у меня только «дегтярь» и граната. Наверное, я скулил. Возможно, я плакал. Я подозвал хозяйку и попросил ее вытащить меня на двор, к плетню, чтоб встретить немцев «дегтярем». И провалился в забытье, откуда вытащили меня боевые соратники. Они спешили. Они очень спешили. Они сказали хозяйке, что на отряд навалились немцы, все погибли, они сами уцелели потому, что не успели до партизан добраться, издали услышали взрывы и автоматные очереди. Напуганная, как и они, хозяйка помогла им прикрепить меня к носилкам, сунула мне в руку какой-то предмет религиозного назначения, и меня понесли – быстро, в лес, тут-то и оказалось, что немецкие пули достигли плеча Алеши и ноги Григория Ивановича. Из чего я сделал вывод: не немцы напали на предателей, а друзья мои, – чего они от меня скрывать не стали, когда через сутки мне стало легче. Более того, я стал стремительно выздоравливать, поскольку уже не надобно было изображать хилого туберкулезного хлюпика, и мне было так стыдно, так стыдно! Притворяться больным в то время, когда мои боевые друзья забрасывали гранатами землянку, где лжепартизанский отряд приготовился слушать московское радио!
В квадрате двадцать километров на двадцать происходили блуждания наши, мы подставлялись, заманивая себя в гестаповскую, то есть лжепартизанскую, банду, и так понаподставлялись, что пора было из квадрата выбираться, но соваться в город, не имея хороших документов? Начальники, что повыше Чеха, очень неверно представляли себе быт оккупированной территории, а какой он, быт этот, – и мы не знали, в одной деревне запел было Григорий Иванович лазаря насчет молочка и прочего, хозяйка промолчала, а тут и сынишка ее входит десятилетний, с котомкой, по миру ходил, оглодочков принес да ожевушей, такое слово употребила хозяйка, и что означают эти слова, подсказал мне дворянский сынок Алеша Бобриков. (В той же деревне, собак спасая, люди их на ночь брали в избы, потому что страшнее полицаев были волки, в окна заглядывавшие.)
Мы, вроде бы окруженцы, оказались чужаками в городе, где нам дали явку. Квартира оказалась теплой, хозяин верным, но ночью Алеша поднял всех. Дом покинули через крышу, дом уже был окружен, и потому решено было: больше ни одному адресу не верить! А кроме адресов, у нас ничего не было, и это называлось обеспечением важного задания командования! Но что было сущей бедой – так мое полное выздоровление, потому что сколько в меня сил вливалось, столько же шумной струей покидало не раз и не два пораненных друзей моих. Все мои болячки перескочили на Григория Ивановича, даже фурункул перебрался на его ягодицу, Алешу же забил сухой кашель чахоточного, и он, меня успокаивая, говорил, что склонность к туберкулезу – это у него с детства.
Когда мы упали в свой окоп, то были такими истощенными, такими вшивыми, что контрразведка побрезговала нас допрашивать, предложив красноармейцам пристрелить нас, чтоб ни мы не мучились, ни командование не страдало.
Но, как видите, не расстреляли. Из милосердия, видимо. Григорий Иванович нес в себе три пули, а из сквозной шейной раны у него сочился желто-красный гной. Алеша мог ходить, лбом касаясь земли и руками придерживая кишки.
До самого порога госпиталя дотащил я друзей, то есть к приемному покою, как ныне выражаются. Полусгнившая и еще державшаяся на наших телах одежда сгорела, весело треща лопающимися вшами, в печке, а меня, признав симулянтом, выписали на следующий же день и предъявили Чеху. Будучи подлецом и законченным мерзавцем, я поэтому виниться не стал. Я только написал объяснительную записку, где рассказал, как тело мое струсило и в решающий момент как бы дезертировало; меня, следовательно, надо судить с непременным приговором – расстрелять!
Чех разорвал мою записку и сказал, что никаких отчетов о героически выполненном задании от нас не требуется, главное – восстановить силы. Тем не менее он подробными вопросами вызнал у меня все и сказал, что про Отари из Очамчири – никому ни слова, ни-ко-му! И уж тем более нельзя сообщать об этой встрече моей невесте Этери, нельзя! И вообще никакого боевого задания не было! Никуда мы не летали, и нигде нас не сбрасывали. Более того, в парашютную книжку последний прыжок не впишут!
Мне было так стыдно, что тянуло хромать. Друзей моих увезли в другой госпиталь, за восемьдесят километров, со строжайшими порядками, я проникал в него, как в немецкий штаб. Иногда переодевался под медсестру и почти вблизи смотрел, как латают тела моих боевых друзей. Алеша едва не умер, работала с его телом красивая седая женщина, главный хирург госпиталя. Однажды, глубоко затянувшись папиросой, произнесла: «Вот возвращаю к жизни восемнадцатилетних, а кто сына моего вернет?..» Я пылко уверял ее, что стану хирургом, что руки у меня золотые, и в доказательство приводил умение стрелять. «Господи! – вздохнула она. – Какой ты убогий!.. Кто его пустил в операционную?»
Лукашин по-прежнему оставался в Крындине. Он тут же, избавляясь от надоедливого подчиненного, отправил меня на курсы в пяти километрах от села. Появились станции новых типов, нам ненужные, какой-то идиот придумал пистолет-ракетницу, тугая пружина могла забросить антенну на самую высокую осину.
Всего неделю длилось обучение. В один из дней этих произошло величайшее событие, в будущем сказавшееся на капитуляции Берлина.
Глава 14
Поверженный Портос. – Тяжкий путь познания женщины: затяжной беспарашютный прыжок с пятнадцатилетней высоты. – Месть роковой женщины.
Только с нашего фронта собрали на курсы радистов, меня, как обычно, засекретили, разжаловали до красноармейца, и я познал много ценного, слушая бахвалистых парней. Никто меня не знал, никому я о себе ничего не говорил, выглядел пожиже всех, не пил, вместо махорки получил полезный для моего возраста шоколад, и стал ко мне цепляться здоровенный верзила из 4-й ударной Армии. Он и раньше угрожал мне расправою неизвестно за что, обзывал сопляком и при каждой встрече норовил толкнуть или презрительно расхохотаться, пальцем тыча в меня. Недостойное его поведение никем почему-то не замечалось. Был верзила старшим сержантом, на груди позванивали две медали, он неоднократно рассказывал, что трижды представлен был к Герою Советского Союза. За гнусный нрав, массивность, спесивость и похвальбу я прозвал его Портосом, что не всем было понятно.