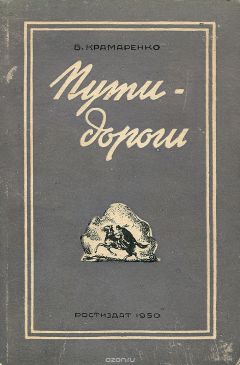Борис Крамаренко - Плавни
— Пустое, Тимофей.
— Иногда сбывается, — неохотно ответил Тимка.
— Бабьи сплетни.
— Мабуть, так. Я вот у Семенного когда ординарцем был… так тот хоть ни в бога, ни в черта не верил, а вот ежели поп ему дорогу перейдет, так всю дорогу потом плюется.
— За пуговицу держаться надо.
— Помогает? — оживился Тимка.
— Угу. — И, спохватившись, Шпак засмеялся. — Ерунда все это, Тимофей! Скажи, а тебе Семенной по душе, что ли?
— Эх, замечательный он человек! — вырвалось у Тимки.
Оба замолчали. Ни Шпак, ни Тимка не пытались возобновить разговор. И лишь когда впереди мелькнули тусклые огоньки, Шпак дотронулся рукой до гривы Тимкиного коня.
— Ты распорядись, а я — до есаула. Тимка молча кивнул головой.
Отношения между командиром отряда и начальником штаба с каждым днем все ухудшались. Раздоры начались сейчас же после отъезда генерала Алгина в Крым.
Полковник Дрофа считал необходимым перейти к «активной партизанской войне». Это означало: налеты на станицы, беспощадное истребление советских и партийных работников, а также всех, кто поддерживал Советскую власть; уничтожение продотрядов и приезжих «мешочников»; организация крушений поездов.
Сухенко настаивал на новой попытке занять станицу, развернуть мобилизацию и, связавшись с уцелевшими еще кое–где отрядами и полковником Рябоконем, повести наступление на Екатеринодар на свой риск и страх. Но Сухенко не мог не видеть, что пополнение отряда идет почти исключительно за счет беглых офицеров да сынков богатых хуторян, мечтающих больше о мести, о расправе над местными коммунистами, чем о широких планах наступления на столицу Кубани.
В конце концов Сухенко, устав от споров и махнув на все рукой, стал собираться к отъезду в Крым.
…Тимка стоял перед полковником Сухенко в тревожном недоумении — зачем он мог понадобиться начальнику штаба? Неужели тот опять хочет послать его куда–то? «И что у них в штабе за привычка, как куда надо послать, так непременно меня». Тимка решил отказаться, сославшись на то, что он был в наряде со своим взводом, а по возвращении из наряда поехал с Гаем и таскался с ним по степи двое суток.
Сухенко примостился у подоконника и писал что–то в ученической тетрадке. Казалось, он забыл про Тимку. «Чтоб тебя собаки съели!» — пожелал ему Тимка и, вздохнув, переступил с ноги на ногу.
— Что, не терпится? Сейчас кончу, — проговорил Сухенко, не отрываясь от тетрадки. Кончив писать, он вырвал из тетрадки исписанные листки и вложил их в конверт.
— Ну-с, господин старший урядник, как дела?
— Спать хочется, господин полковник.
— Спать?!
— Я с Гаем ездил… а перед этим в наряде был.
— Ты меня извини, я не знал. — Сухенко поднялся и, подойдя к Тимке, взял его за подбородок. — Да… вид у тебя неважный. Похудел, глаза тусклые… Еду я, Тимка, в Крым, хочешь — возьму с собой? В офицерскую школу поступишь, человеком будешь.
В Тимкиной памяти еще свежи были дикое ржание сотен лошадей, и рев быков, загоняемых в трясину, и перекошенное злобой лицо Петра у пулемета, и кровавый бой отряда Рябоконя, вырывающегося из окружения. Он отрицательно мотнул головой.
— Напрасно отказываешься… Тут пропадешь. — И неожиданно добавил: — Ты уходи из отряда. Тебе в нем делать больше нечего. Уходи… а то погибнешь.
— Куда я пойду? — нахмурился Тимка.
— На какой–нибудь хутор уйди, если в Крым не хочешь. Лучше в работниках пока поживи. Русская армия подойдет — опять к нам придешь. А сейчас уходи, — еще раз настойчиво повторил Сухенко.
Он отошел от Тимки к окну, достал из кармана маленькую круглую коробочку из слоновой кости, осторожно открыл ее — и Тимка с изумлением увидел, как начштаба втянул носом какой–то белый порошок, насыпанный им на ноготь большого пальца. «Лечится, что ли… А зачем носом тянет?» Тимка хотел спросить об этом полковника, но тот, словно спохватившись, поспешно спрятал коробочку в карман.
— Ты свою невесту давно видел?
Тимка не мог понять, почему начштаба пришла в голову мысль об этом.
— Давно… — неохотно ответил он.
— Соскучился?.. Чего ж молчишь? Вижу, что соскучился. Повидаться с ней хочешь?
— Нельзя мне, — угрюмо проговорил Тимка.
— Почему?
— Не простит, что от красных сбежал…
— Ну, если любит, простит.
— Нет. Не простит. — И Тимке стало обидно, что из–за белых потерял все, что имел: отца, брата, невесту, семью. Из–за них он рисковал жизнью, и вот теперь начальник штаба, словно в насмешку, предлагает ему видеться с Наталкой. Да еще в то время, когда он от усталости еле держится на ногах. Да и разве он посмеет взглянуть Наталке в глаза? Видно, полковнику нужно послать его зачем–то в станицу, и теперь он манит его, словно ребенка игрушкой, свиданием с Наталкой.
Сухенко взял его за локоть и подвел к столику.
— Садись. — Он пододвинул ему табурет. — Ты, должно быть, есть хочешь. Сейчас мы с тобой закусим, а потом поговорим о деле. — Он вышел в соседнюю комнату, которую занимали Дрофа и казначей отряда, и вскоре вернулся, неся бутылку самогонки, хлеб, сало и блюдо с жареной курицей, обложенной румяной картошкой и мочеными сливами.
— Фу! Насилу донес. Пока командование отряда парится в бане, мы закусим. — Сухенко с презрительной усмешкой сделал ударение на слово «командование» и, сев к столу, пододвинул к Тимке блюдо с курицей. — Ешь! Вилки сейчас достанем. — Сухенко достал из ящика стола пару вилок и две стопки.
Тимке лестно было, что сам полковник Сухенко собирается с ним запросто завтракать. Он уже смягченным взором посмотрел на него и с удивлением заметил, что карие глаза полковника горят каким–то неестественным блеском, а тонкие ноздри чуть горбатого носа раздуваются, жадно хватая воздух. Тимке стало немного жутко. Почему–то вспомнились слышанные им рассказы про оборотней, принимающих любой образ. Он осторожно, чтоб не заметил полковник, перекрестил под столом свой живот. А когда Сухенко повернулся к нему спиной, откупоривая бутылку, Тимка быстрым движением, воровито перекрестил ему спину. Но полковник не исчез и не провалился сквозь пол в облаке дыма и огня, и Тимка немного успокоился.
Ему даже стыдно стало за свой страх. Он взглянул еще раз в лицо полковника — и сжался, словно под ударом, а по спине поползли мурашки. Ему показалось — правда, на один лишь миг, — что в глазах полковника вспыхнули какие–то жуткие зеленые огоньки.
Если бы это было ночью, то Тимка, наверное, поднял бы визг и выскочил бы в окно. Но был ясный солнечный день золотой осени. На кухне гремела посудой хозяйка, двор был полон казаков. Тимка снова пересилил свой страх и нерешительно взялся за стопку, пододвинутую ему полковником.
— Бери! Выпьем за Наталку, за всех хорошеньких женщин… и за будущего подхорунжего Шеремета. Пей! — Тимка выпил залпом и закашлялся. — Ничего. Привыкнешь. Офицер должен уметь лихо пить.
Самогонка огнем разошлась по Тимкиному телу. Голова приятно кружилась. Он уже не боялся полковника.
«Да что это я, право, пусть он будет хоть сам черт, мне–то что?» — Тимка выпрямился на табурете, но посмотреть в глаза полковнику не решился. Сухенко, налив себе и Тимке по второй стопке, проговорил:
— Надо отвезти в Староминскую письма. Очень важные… Я доверяю только тебе. А насчет Крыма ты подумай. Буду ждать твоего возвращения три дня.
Поездка в станицу Тимке представлялась теперь уже в другом свете. Во–первых, хотелось побывать хотя часок дома, повидаться с матерью, а потом можно будет через учительницу передать письмо Наталке. Тимка и сам не знал, что он напишет, да не все ли равно? Важно лишь, чтоб ту бумагу, на которой он ей напишет, держали ее руки. В Крым же Тимка не поедет. Это он решил твердо. Уж если придется уйти из отряда, то на хутор к Петру.
Вечером, накануне воскресного дня, Зинаида Дмитриевна, проводив до ворот Наталку и пообещав быть у нее на другой день с утра, вернулась к себе в комнату. Кутаясь в плед, она подсела к окну. В комнате стоял полумрак, но огня зажигать не хотелось.
За окном подымался ветер. Он срывал помертвелые листья с куста сирени и бросал их в стекло. Зинаида Дмитриевна поежилась и встала. Она подошла к своей узкой, девичьей кровати и легла на нее, укрывшись с головой пледом. Она не слышала, как вместе с шумом бьющихся о стекло листьев в комнату долетел слабый стук. Стук постепенно усиливался. Он уже назойливо лез в уши и походил на нервную дробь барабана.
Зинаида Дмитриевна подняла голову и тревожно прислушалась. Стук не прекращался. Было ясно, что кто–то, не желая звонить с парадного хода, стучит в окно. У Зинаиды Дмитриевны тревожно забилось сердце. Она машинально поправила волосы и торопливо подошла к окну. «Анатолий! Ну, конечно, он!..» Зинаида Дмитриевна бессильно прислонилась к оконному косяку, всматриваясь широко открытыми глазами в темноту ночи. За окном раздался голос, заглушенный стеклом и шумом ветра: