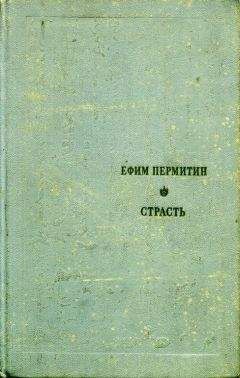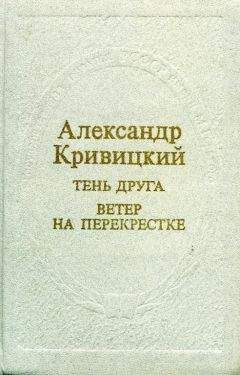Анатолий Калинин - Возврата нет
Если же его жене нравится, пусть сама и вооружается сантиметром. Это в ее духе, она готова ревновать его к каждой юбке. Но от того, что сама шьет платья ниже колен, успеваемость и дисциплина у нее в классе не сделались лучше.
Не в первый, но теперь уже наверняка в последний, раз он позволил ей вмешиваться в его взаимоотношения с учительским коллективом и до сих пор не может избавиться от чувства мучительного стыда, что разговаривал с человеком, как стопроцентный ханжа и невежа. Как он мог до этого докатиться?
* * *И дома от ее платьев даже зимой всегда веяло так, будто где-то рядом цвела виноградная лоза. В то время как от Григория, ее мужа, который возился в своей ветлечебнице с коровами и свиньями, всегда пахло креолином. А последнее время все чаще по вечерам, когда он возвращался домой, припахивало спиртным, чего прежде никогда не замечала за ним Антонина. Раньше, бывало, Никитин даже подсмеивался над Григорием, когда тот в воскресенье, выпив налитую ему рюмку, потом долго не мог откашляться, тряс головой.
Теперь же, когда он вечером возвращался из ветлечебницы, издали можно было увидеть, как его велосипед выписывает на дорожной пыли восьмерки. Хуторские женщины, провожая его взглядами, покачивали вслед головами, а ребятишки весело показывали друг дружке на пыльной дороге его затейливые узоры.
Как-то вечером донеслось до слуха Антонины с половины дома, занимаемой молодыми, как Ирина презрительно сказала пристававшему к ней с пьяными нежностями Григорию:
— Разве таких любят?
Вдруг совсем протрезвевшим голосом Григорий ответно спросил у нее:
— А таких, как ты?
Ирина немедленно переспросила:
— Каких — таких?
— Ты и сама знаешь, — уклончиво пробормотал Григорий.
— Может быть, и любит… кто-нибудь, — не сразу ответила Ирина.
Антонина поспешила закрыть на их половину дверь, чтобы не слышать продолжения этого разговора.
* * *По воскресеньям, когда вся семья в одно время сходилась за столом, обмениваясь теми новостями, что у каждого накопились за неделю, у Никитина с Ириной обычно начиналась словесная игра. Заранее посмеиваясь, он требовал от нее последних донесений с фронта ее войны с директрисой из-за длины волос и юбок. В свою очередь, у него каждый раз тоже непременно находилось для нее что-нибудь смешное.
— До тех пор никак не мог сообразить, — рассказывал он, — почему наши старухи совсем перестали ко мне в кабинет заходить, пока не пришла тетка Мавра за направлением в Дом престарелых. Сперва она сунулась с порога — и назад, а потом перекрестила на полу ковер, подобрала юбки — и ко мне. Только тут я вспомнил, что ковер ко мне в кабинет попал прямо из алтаря при распродаже церковным советом излишков божественного имущества. А в алтарь, как известно, женщинам и кошкам вход строго-настрого запрещен.
И, рассказывая Об этом Ирине, он до слез смеялся, запрокинув голову на спинку стула. Антонина давно уже не слышала у него такого молодого смеха. Ирина смотрела на него и тоже неудержимо хохотала, прикладывая к щекам ладони.
Смотревшей на их веселье Антонине становилось как-то не по себе. То, над чем они смеялись, действительно было смешным, и все же этого недостаточно было, чтобы предаваться столь бурному веселью, совсем забыв, что здесь еще и другие люди. Она видела, что и Григорий, не поднимая глаз от тарелки, улыбается одним утлом рта, неохотно.
Они оставались за столом и после того, как Григорий, поев, уже уходил на свою половину дома.
— Сейчас, сейчас, — не оглядываясь, рассеянно отвечала Ирина ему, звавшему ее к себе.
И тут же опять поворачивалась к Никитину с готовностью по смеяться над тем, что он скажет.
Однажды Антонина не удержалась, когда он рассказывал, как молодой станичный поп спрятался у своей прихожанки под кровать от нагрянувшего мужа:
— …А ноги в шерстяных носках из-под кровати торчат. Муж до утра заставлял его барабанить пятками по полу. Только потянется к ружью на стене, как батюшка опять начинает отбивать дробь.
Постукивая кулаками по столу, Никитин показывал взахлеб смеющейся Ирине, как это получалось у попа. У Антонины испуганно вырвалось:
— А если б он его убил?
Коротко, не взглянув в ее сторону, Никитин бросил:
— За это, Антонина Ивановна, теперь не убивают. Другое время. — И вновь продолжал показывать Ирине, как это получалось у станичного попа.
Чего это ему вздумалось ее Антониной Ивановной величать? Несмышленый внук, Петушок, при этом так и скакал на коленях у деда.
Только у нее, у Антонины, и не оказывалось под рукой каких-нибудь новостей, которые тоже можно было бы ввернуть в разговор. Кроме все одних и тех же, связанных с внуком, с огородом и с обычными хлопотами по хозяйству, совсем неинтересных для них. Какие у нее могли быть новости, если теперь и она по целым дням ни на шаг не отлучалась из дому, и к ней почти не заглядывали люди. За исключением Настюры Шевцовой, которая пока не забывала ее.
С тем большей жадностью набрасывалась Антонина с ласками на внука. С запоздалым раскаянием вспоминала, что даже Гришу, своего сына, не пестовала так. Даже он, ее первенец и единственный, когда был таким же крохотным, не занимал в ее жизни и ее сердце такого места. Может быть, потому, что совсем молодая еще, глупая была, а может, и потому, что другое было время, и ее жизнь, не то что теперь, заполнена была совсем другим.
Это теперь она может и купать своего внучонка каждый день, и собственноручно обшивать его, и чутко ловить, чтобы потом пересказать другим, каждое новое слово из его косноязычного лепета. Удивительно, как этим ручонкам удается так безраздельно завладевать сердцами взрослых. И совсем уже удивительно, как в таком маленьком человечке могут вдруг выразиться черты и повадки — нет, даже не своих родных отца или матери, а неродного деда. Та же степенность и также — это когда Петушок уже встал на свои ножонки — пройдется взад и вперед по комнате, сунув за пояс штанишек большой палец.
Антонина безотчетно радовалась, глядя на него, а Никитин при этом начинал бурно хохотать и, подхватывая внука на руки, подбрасывая его над собой, кричал:
— Сразу видно мужчину!
После этого у них поднималась такая возня, что даже Ирина, отрываясь от тетрадей, сердито кричала им с соседней половины, чтобы они убирались во двор.
Сразу присмирев, Никитин послушно удалялся с внуком на руках, сконфуженно поясняя ему:
— Тише, Петушок, а то твоя мамка не успеет проверить все тетрадки.
И чем дальше, тем все больше удивлялась Антонина, как это Григорий мог оставаться совсем равнодушным к своему сыну. Ни разу не видела, чтобы взял его к себе на колени или же, допустим, смастерил ему, как тот же дед, из спичечной коробки, из щепок, а то и просто из арбузных корок, какую-нибудь тележку или другую незамысловатую игрушку. Не говоря уже о том, чтобы порадовать своего первенца купленными в станичном сельпо дудочкой, цветными кубиками, самосвалам с механическим заводом.
* * *— Ты, мать, теперь у нас начхоз, — говорил Никитин, — а от этой фигуры на фронте всегда зависела большая половина успеха. Фигура, можно сказать, историческая.
Ей нравились эти слова, хотя и непривычно пока было, что он стал называть ее уже не по имени, а матерью. А последнее время все чаще бабкой.
Но ведь так оно и было. Самое главное было не в словах, а в том, что ей, в избытке хлебнувшей одиночества у себя в доме на яру, теперь сразу привалила такая большая, веселая семья. И если правда от нее зависит, чтобы в их семье все было хорошо, она постарается сделать для этого все, что в ее силах. В том числе и для того, чтобы ничем посторонним, лишним не омрачалась молодая жизнь ее сына, Григория, с женой, Ириной.
Ей давно уже показалось, что между ними что-то происходит. Ни от Григория, ни от невестки не слышала она, чтобы они когда-нибудь жаловались друг на друга, и чужому взору ни за что было бы не уловить тех искр, которые пробегали между ними. По видимости все оставалось у них, как прежде. Но на то и мать она была, чтобы увидеть то, чего не могли увидеть другие. Как бы они ни скрывались и как бы ни береглась она того, что происходило на их половине дома, нельзя было, живя под одной крышей, до конца уберечься.
— Опять от тебя, как из бочки. Каждый день. После этого ты на что-то еще претендуешь.
— Ты же знаешь, почему я стал пить. Давай, Ириша, скорее уедем отсюда. Мы еще только начинаем жить. Я тебе ни единым словом не напомню.
— А я и не считаю себя виноватой. Когда-то, когда мы еще были студентами, ты говорил, что выше любви ничего не может быть. Другой бы на твоем месте знал, как надо поступить. У тебя просто ни мужества, ни гордости нет.
— Как ты не поймешь…
Туг Антонина неумышленно напомнила им о своем существовании, зацепив ногой порожнее ведро, и они замолчали.