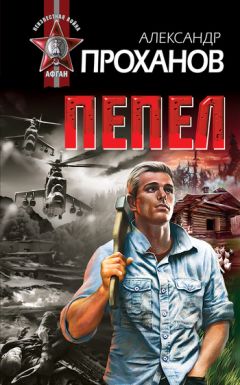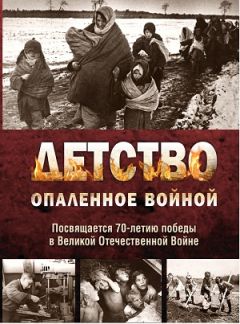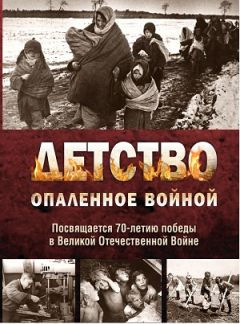Александр Проханов - Пепел
Она улыбалась жалобно и болезненно. Ему хотелось подойти, взять ее усталые, натруженные ладони, развеселить, утешить. Но ком подкатился к горлу, и он, боясь слез, отвернулся, туда, к горе, где стояли высокие кладбищенские березы.
Они выкопали пол-огорода. Суздальцев перенес в подпол три полновесных мешка. У тети Поли хватило сил, чтобы накормить их обедом. А потом она снова залегла на свою высокую, с металлическими шарами, кровать.
— Совсем нету сил, задыхаюсь. Пошел бы ты, Петруха, к реке. Там калинка растет. Принеси ягод, я заварю, выпью, может, полегчает.
Суздальцев взял холщевую сумку, кинул в нее нож. Отправились с Ольгой в лес за калиной. Она как копала картошку в разношенных башмаках и дырявой куртке, так и пошла за ним.
Дошли до реки. Обмелевшая с весны, она дрожала солнцем на перекате, омывала малый островок, с которого снялась стая куличков, с писком понеслась, отражаясь в воде белыми брюшками. Поднялись на крутой берег. На небольшом скошенном поле стоял стог клевера, темно-зеленый, начинавший темнеть, с красно-ржавыми вкраплениями цветов. От стога исходил пряный, дурманящий запах. Суздальцев, проходя мимо, вдруг решил, что на обратном пути здесь, у этого стога, он поцелует ее.
Они вошли в лес, которым порос высокий берег реки. Невидимая, она текла под кручей, и он подумал, что еще этой весной по реке двигался туманный ночной огонь, таяли снега, и он шел вдоль берега с другой женщиной, предвкушая неизбежную близость. И теперь все это казалось ненужным, полузабытым, заслонилось его новой влюбленностью.
В зарослях калины хозяйничали дрозды. Шумно скакали, обклевывали красные ягоды, мерцали стеклянными крыльями, серебристыми хвостами. Всей стаей шумно взлетели и скрылись.
Суздальцев наклонял ветки, срезал пучки ягод, передавал Ольге. Она осторожно погружала их в сумку. Калина на вкус была еще кислой, чуть едкой, не обрела ту сладость, какая возникает в ней после первых морозов.
Наполнив сумку, двинулись обратно.
Она говорила мечтательно:
— Хорошо бы поселиться здесь на недельку и порисовать. Здесь так красиво. Что ни взгляд, то пейзаж. А натюрмортами будут служить гроздья калины, картофельные клубни, чугунки на печке… А с вас и с тети Поли я сделаю портреты.
Они вышли на лужок. Стог приближался, зелено-красный, коричнево-черный. Суздальцев знал, что через несколько шагов ее поцелует.
— Я думаю, мои преподаватели будут довольны пейзажами и портретами.
Они приблизились к стогу, и он, сделав шаг в сторону, позвал:
— Подойдите сюда!
Она подошла, думая, что он собирается ей что-то показать. Он обнял ее за плечи, прижал к стогу. Клевер тихо вздохнул, расступился, принимая ее в свою глубину. Он наклонился над ней и поцеловал в пунцовые мягкие губы, дрогнувшие, а потом застывшие. Целовал ее долгим сладким поцелуем, с закрытыми глазами. Слыша, как дышит стог, как из него исходят тихие шуршанья и звоны.
Открыл глаза. Она смотрела на него туманно, и казалось, стог отразился в ее глазах своим смуглым вишневым цветом, своей потаенной зеленью и темным золотом.
— Этого не следовало делать, — сказала она, и дальше, до самого села, они молчали.
В избе он поставил чайник, вскипятил воду, натолкал в жестяную кружку ягод и сделал тете Поле отвар. Видел, как распускается в воде темный сок. Помог ей выпить. Отвар проливался мимо рта, и тетя Поля благодарно, без сил, откинулась на подушку.
— Немного отойду, и сядем чай пить, — пообещала она, устало закрывая глаза.
Они вышли в сени, сухие, теплые. Сквозь щели горело солнце, оставляя на тесовых досках пламенеющие пятна. Полотняный полог из ветхой материи казался наполненным бледным серебристым солнцем.
— Иди сюда, — позвал он ее, приподнимая завесу полога. Увидел, как под полотняным покровом трепещет белая бабочка.
Она сбросила свои грубые башмаки, сделала шаг босыми бесшумными ногами. Он взял ее за плечи и снял драную куртку, под которой блеснула и засветилась ее шея и полуоткрытая грудь. Обнял ее, целуя, и мягко, сильно опуская на деревянную скрипнувшую кровать, на сухой, зазвеневший сенник. Опустил завесу и, закрыв глаза, не выпуская ее мягких послушных губ, чувствуя своими босыми ногами ее теплые ступни, целовал ее, путался в ее легких одеждах, зарывался лицом в ее волосы, слышал, как шуршит сухое сено, как дрожит и поскрипывает старая кровать.
Он был жаден, тороплив, оглаживал ее всю, целовал губы, глаза, дышащую взволнованную шею, руки, которыми она старалась прикрыть грудь и живот. Сквозь длинные дрожащие пальцы целовал ее розовые соски, и всю руку, вплоть до плеча и теплой мягкой подмышки с колечками темных волос. Она была его, принадлежала только ему. Он выхватил, вырвал ее из окружавшего их мира — из воздуха, света, текущей темной реки, из куста калины с перелетавшими дроздами. Он захватил ее к себе, отгородился от мира полотняным пологом и, боясь, что проникавшее солнце отнимет ее у него, не желая видеть эти серебристые, в пылинках лучи, закрывал глаза. Заслонял ее собой от света. Слышал, как скрипят, музыкально переливаются на множество ладов сухие доски старой кровати.
Мир, который, казалось, был изгнан им и отступил, вдруг стал возвращаться. Стиснув веки, он видел, как летит через лесную дорогу сойка, сверкнув на мгновенье лазурью. Как в черной лесной промоине по воде плывет крохотный желтый листочек. Как кротко, не мигая, смотрят на него зеленые овечьи глаза. Как поднимается над рожью высокая жемчужная туча, и из нее выпадает косая бахрома дождя. Как белка, похожая на алую буквицу, вьется по вершинам зимних деревьев. Какие золотые нити выскальзывают из-под полозьев саней. Как круглая голубая луна касается московской колокольни. И лежащее в траве немецкое колесо с бронзовой втулкой, и огненные письмена, возникающие под его бегущим пером, и разгромленный караван, и бегущий в тумане одичалый верблюд. Что-то огромное, тяжелое, как свинец, надвигалось на него из будущего. И это непроглядное, свинцовое будущее было его будущей смертью. Но она не успела случиться, ибо все полыхнуло ослепительным светом. Будто в рожь упала звезда и долго трепетала разноцветными зарницами, пока не погасла.
Они лежали без сил под пологом в серебристом свете, и белая бабочка чуть слышно шуршала под матерчатым покровом.
— Ты больше не уедешь отсюда. Будешь здесь со мною всегда, — сказал он, слыша легчайший шелест бабочки.
— Здесь, под пологом? — слабо улыбнулась она.
— Я все решил. Мы будем мужем и женой. Ты согласна?
— Ты уверен, что это нужно тебе?
— Ты отправишься к своим родителям, к своим друзьям и скажешь, что выходишь замуж. Переезжаешь ко мне.
— А мое учение, мое рисование, мои задания?
— Теперь у тебя одно на всю жизнь задание — быть со мной. Ты моя жена, моя единственная и ненаглядная. Ты мать моих детей. Ты продолжательница моего рода.
— Ты писатель, начинаешь свой путь. Он будет у тебя очень трудным. Тебя подстерегают испытания. Ты будешь путешествовать, искать все новых и новых впечатлений. Твои войны, о которых ты говоришь. Материки, которые ты посетишь. Бесчисленные встречи и увлечения. Там будут другие женщины, соблазнительные красавицы. Зачем тебе я? Я буду для тебя бременем.
— Ты будешь для меня единственной отрадой. Все свои путешествия я буду совершать ради тебя. Все войны, на которых мне суждено воевать, буду выигрывать ради тебя. Все мои книги буду посвящать только тебе. Ты будешь вдохновлять меня на победы. Ты будешь целить мои раны. Принимать избитого и несчастного, если меня постигнет поражение. И ликовать вместе со мной в момент моего триумфа. Я обещаю, что буду любить тебя вечно. Не променяю ни на какую красоту и богатство, ни на какую славу или успех. Мы проживем с тобой вместе нашу жизнь. Наши дети, трое, или четверо, или пятеро, продолжат наш род.
Он умолк, видя, как тихое солнце серебрит ее ноги. Бабочка, белая, с нежной желтоватой пыльцой, кружилась над ними. Билась о светлую ткань и чуть слышно шуршала.
— Я буду твоей женой, — сказала она. — Я дам тебе полную свободу. Буду отпускать тебя в твои странствия, в твои походы и войны. Я знаю, ты станешь знаменитым писателем. Тебе будет дано описать весь этот мир в его тьме и свете. Ты в своих поисках поднимешься на небо и опишешь рай, и спустишься под землю, в жуткую тьму, и опишешь ад. Ты в своих книгах запечатлеешь весь мир, который куда-то рвется, что-то вынашивает в себе — то ли огромную для всех беду, то ли небывалое, предсказанное счастье. Я буду тебе верной женой, помощницей во всех твоих начинаниях. Ты будешь возвращаться домой измученный, может быть, раненый, и я буду встречать тебя, омывать твои раны. Если на войне тебе оторвет руки, я буду твоими руками, стану записывать твои впечатления. Если тебя ослепит взрывом, я буду твоими глазами. Если ты онемеешь, я буду по твоим глазам угадывать твои мысли. Я рожу тебе детей. Троих, четверых, пятерых. Кода они вырастут, я поведу их в лес, который ты посадил. Мы станем собирать в нем ягоды, слушать птиц, и я расскажу им, как ты встретил меня на проселке и мы несли с тобой двух ягнят.