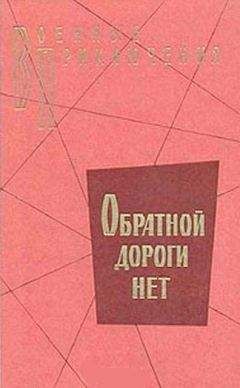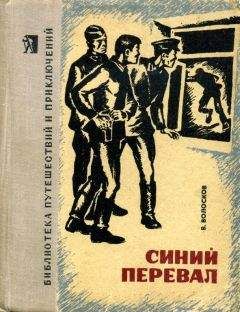Владимир Волосков - Где-то на Северном Донце.
А вот двоих из лежащих Лепешев знает хорошо. Это его пулеметчики. С ними он отмерил немало километров военных дорог. Вот они, лежат рядом. Первый номер Скулацкий, и второй — Витя Сластунов. Лежат, иссеченные осколками вражьих мин. Лепешев прикрывает глаза, и они встают перед ним живыми: неунывающий балагур Скулацкий и застенчивый Витя.
Скулацкий, бывший крановщик ленинградского торгового порта, любил позубоскалить, посмеяться. Он всегда, в любой обстановке был таким, этот ленинградский нескладный парень. Длинный, сухопарый, с торчащими ежиком смоляными волосами, с оттопыренными большими ушами (врал: «Это от мичманки. Во время штормяги натянешь на уши…»). Много побасенок знал Скулацкий, но чаще всего любил рассказывать о своей красавице жене, которую он якобы отбил у какого-то флотского комиссара, много раз делавшего ей предложение.
Витя — туляк, единственный сын вдовца-железнодорожника. Он обожал стихи, сам пробовал писать, рассказывал об отце с такой восторженностью и обожанием, что можно было подумать, будто его родитель не обыкновенный паровозный машинист, а бог весть кто.
Бывало, на привалах, устав балагурить, Скулацкий ложился к костру и приказывал своему второму номеру!
— Ну, я оттрепался. Теперь трави свои куплеты.
И Витя доставал тоненький блокнот, сшитый из разрезанной втрое ученической тетради, и, стесняясь, читал вслух стихи о России, о коммунизме, о весне, о небесно-чистых девушках.
Теперь они лежат у кирпичной стены и кажутся Лепешеву живыми. При мысли, что красавица Галочка уже никогда не обнимет своего веселого мужа, а вдовец-железнодорожник не увидит единственного сына, Лепешеву становится горько.
— Глинин! Раненых снести к реке. Убитых похоронить. Остальным восстанавливать траншеи, готовиться к бою! — хмуро приказывает он и уходит в здание.
На войне у командира, хоть и малого, всегда есть дела. Заботы спасают Лепешева от бессмысленных в его положении терзаний.
* * *Затаенная тишина висит над разрушенным хуторком. Тишина эта относительная, так как за садами что-то лязгает, слышны гортанные выкрики, дымят походные кухни, рядом в траншеях звякают лопаты, переговариваются бойцы, заряжающие диски и пулеметные ленты, но после грома недавнего боя для Лепешева это тишина. Тишина глубокая и многозначительная. Лейтенант всматривается в расположение противника и старается угадать, что таит в себе эта затянувшаяся передышка, что решит тот неизвестный Лепешеву немец, который, конечно же, должен что-то предпринять. Лепешев наблюдает долго, но ничего особенного не обнаруживает. Автоматчики в развалинах не подают признаков жизни. Немцы в садах тоже ведут себя смирно.
Веселый гомон вспыхивает вдруг в траншеях и конюшне. Причина оживления — горячий обед. Четыре санитара принесли снизу два термоса — один с супом, другой с кашей. И Лепешев только сейчас чувствует, что смертельно голоден — с утра во рту не было ни крошки.
Глинин приносит котелок с дымящимся супом и молча ставит его возле командира взвода. Благодарно кивнув, Лепешев с жадностью набрасывается на еду. Черт возьми, несмотря ни на что, человек остается человеком. Пусть рядом затаилась смерть, пусть она глядит на него, молодого лейтенанта, Лепешеву сейчас наплевать на все. Он наслаждается едой и радуется, что там, внизу, есть люди, которые помнят о защитниках мыса — приготовили им такой славнецкий суп и кашу с мясом. Пусть это конина, пусть она жестковата и припахивает потом, но это еда, это обязательный элемент жизни. И, насыщаясь, Лепешев только сейчас сознает, что обошел его стороной еще один смертный вихрь, что он жив и, чем черт не шутит, может, будет жить еще долго-долго.
Невдалеке, прислонившись широкой спиной к стене, ест рыжий бронебойщик. Ест не спеша, со смаком, громко, аппетитно чавкая. И Лепешеву невольно думается, что этот спокойный, неробкий человек, очевидно, и в мирной жизни был таким же уравновешенным, любил хорошо поесть и с чувством-толком покурить после обеда.
— Как ваша фамилия? — спрашивает Лепешев.
— Моя? Ильиных я. Федор Ананьевич Ильиных.
— И откуда родом?
— Из Серова. Слыхали о таком городе? Бывший Надеждинск. На Северном Урале. На металлургическом заводе работал. У нас все металлурги. И братья, и отец, и дед им был. Семейная профессия вроде бы.
— Слышал, — улыбается Лепешев. — Я сам свердловчанин.
— Вот те на! — удивляется Ильиных. — Земляк, выходит… — И он восхищенно щурит на лейтенанта серые, с зеленцой, кошачьи глаза, как бы наново оценивая своего временного командира.
Лепешеву приятно видеть в этом храбром солдате земляка.
— А Егорыч тоже нашенский, уральский, — оживленно сообщает Ильиных. — Ирбитский он.
— Красноармеец Степанов! — Усатый бронебойщик отставляет котелок, вытягивается по стойке «смирно» в своем окопчике и, помявшись, добавляет? — Прохор Егорович…
— Садитесь, садитесь, Прохор Егорыч, — машет ложкой Лепешев. — Ешьте. И кем вы до войны?
— Да как сказать… — Степанов конфузится. — По конной части я… Последнее время коновозчиком при родильном доме состоял.
— Что ж, это тоже надо, — серьезно говорит Лепешев, подавляя улыбку, и думает, что негромкие довоенные свои обязанности Степанов, должно быть, исполнял так же добротно и аккуратно, как делает рискованное солдатское дело. И еще Лепешев доволен, что Ильиных не засмеялся, хотя в прищуренных глазах верзилы-сталевара прыгают веселые чертики.
— А я в Свердловске часто бывал… — вздыхает Ильиных. — Девушка там одна живет. На улице Малышева…
Но Лепешеву уже не до воспоминаний. Его слух улавливает неясный отдаленный гул, и лейтенант даже перестает жевать, напряженно вслушиваясь в этот новый звук, нарастающий в теплом вечернем воздухе.
Степанов тоже беспокойно вертит головой, заглядывает в амбразуру.
* * *Лепешев с сожалением отставляет котелок и идет на свой наблюдательный пункт в углу. Линзы бинокля метр за метром ощупывают развалины, сады, отдельные деревья и трупы немецких солдат, валяющиеся между ними. Ничего нового. А за садами — отдыхающая от дневного зноя степь. Бугристая, голубовато-зеленая от обильно разросшейся полыни, изрезанная балками. Лепешеву кажется, что он слышит вечернюю перекличку перепелов и звонкое пение жаворонков над степной ширью. Но это не так.
Не птичье пение — далекий грозный гул растет в безветренном воздухе.
Пыльное облачко, его наконец-таки видит лейтенант. Оно далеко, это серое пятно на неровной кромке горизонта. Однако Лепешев знает: обманчив степной простор. Не позже чем через полчаса к гитлеровцам подойдет подкрепление. Вот чего дожидается противостоящий Лепешеву немец.
Лейтенанту остается только ждать. И он терпеливо ждет приближения колонны (она движется той же дорогой, что и, днем), ждет и думает об одном, лишь бы не танки. Но надежда его гаснет, когда из-за ближайшего увала сначала выползает одна темная коробка, за ней другая…
— Восемь. Четыре T-IV и четыре Т-II. Три автомашины, одна автоцистерна, — докладывает от своего пролома Глинин, когда прибывшая колонна скрывается за садами.
Лепешев согласно кивает. Он сосчитал так же.
— Углублять окопы и траншеи, вязать гранаты связками! — угрюмо командует лейтенант.
Танки Т-II не страшны. Неважно вооруженные, устарелые тонкостенные коробки — они станут легкой добычей бронебойщиков. T-IV — штука посерьезней. Лепешев отлично знает силу этих средних танков, маневренных, хорошо вооруженных немецких машин, имеющих достаточно мощную лобовую броню. Много неприятностей причинили они советской пехоте за минувший год. Лепешев понимает, что отбить предстоящую немецкую атаку будет трудно. «Эх, сюда бы хоть парочку противотанковых пушечек. Тогда б был другой разговор».
Лейтенант угрюм и насуплен. Противотанковых мин нет, бронебойных средств мало — практически это означает конец. Все козыри теперь у того неизвестного немца.
* * *Лепешев выходит из конюшни, смотрит с обрыва вниз. Понтон и плоты, кажется, еле движутся по широко разлившейся вокруг мыса реке. А на берегу под вербами, в многочисленных щелях, еще много раненых. Возле них хлопочут медсестры и женщины-врачи. Лепешев вглядывается, стараясь угадать среди них ту, беленькую, но сверху они похожи друг на друга в своих зеленых пилотках. У походной кухни возится повар с забинтованной головой, и более ни одного здорового мужчины. Понятное дело, на подкрепление рассчитывать не приходится. Все способные ходить — на плотах и понтоне или копают окопы на левом берегу. А девушек, если даже прикажут, Лепешев на огневую позицию не допустит. Он достаточно насмотрелся на женские страдания за минувший проклятый год…
И лейтенанту вдруг вспоминается та, которую, как ему казалось, очень любил. Тоненькая, русоволосая, она всегда была ласкова, даже нежна с ним. Приезжая в отпуск из пехотного училища, курсант Лепешев, бывало, целыми ночами бродил с ней по набережной свердловского городского пруда, шептал жаркие признания, на какие был способен. Она нежно гладила его волосы мягкими ладошками и не прятала губы от поцелуев. Случалось, что они ночевали вместе, в одной комнате, но Лепешев, в ту пору уже далеко не святоша, никогда ничего себе не позволял. Он любил ее и берег для самого себя.