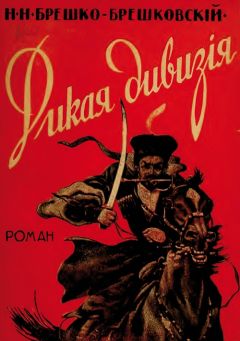В когтях германских шпионов - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
Ирма тщательно заперлась на ключ и задвижку. Не менее тщательно осмотрела обе двери: и в опустевшую Вовкину комнату, и в другую, напротив, соседнюю, за которой помещался странный, длинноволосый человек в бородавках.
Ирма сунула под подушку револьвер, тот самый, заставивший в «Семирамисе» попятиться Флуга. Легла в холодные простыни, взяла какой-то французский роман, пыталась читать. Но буквы сливались какими-то пляшущими зигзагами. И уснуть не могла… Сон бежал. Бледная, с округлившимися восточными глазами своими, графиня прислушалась. Какое-то тихое царапанье, какой-то шорох… Смолкнет, затаившись… Опять… Или мышь начинает скрестись, или воображение разыгрывается…
Ирма съежилась в комочек, замерла, и ясно-ясно слышит биение сердца. Мышь продолжает скрестись… Встать?.. Обойти комнату? Крикнуть? Это вспугнёт, пожалуй… Но нет ни сил, ни воли. Каким-то оцепенением скованная лежит Ирма. И ширятся, расплываясь, зрачки, и нет сил протянуть руку, погасить электричество… Сердце уже не бьется, замирает, и какая-то неприятная, неприятная, обессиливающая истома входит и в сознание, и в мозг, и в тело, и в нервы… И рада была бы пошевельнуться, крикнуть… Но — не может… Не могла бы под самой страшной угрозой…
Так бывает во сне…
14. Чемодан Гудсона
Длинноволосый корреспондент с бородавкой и в тёмных очках предавался чрезвычайно странному занятию. С искусством, которое сделало бы честь любой профессиональной «отельной крысе», Гудсон какими-то особенными щипчиками так повернул ключ, вернее бородку его — ибо весь ключ находился в комнате Ирмы, — что образовалось небольшое отверстие в замке. Человек в бородавках, прищурившись, мог видеть свет у графини Гудсон, очевидно, готовился к чему-то важному и опасному не только для соседки, но и для себя самого. Он добыл из чемодана странный предмет, имеющий некоторое сходство с бинтом для усов. Но бинт для усов прозрачен и тонок, здесь же скорей какой-то подушкообразный вид. На концах этой продолговатой подушечки — шнурки петлёю, чтоб можно было застегнуть за уши. Он так и сделал. И нижняя часть лица вместе с носом закрылась. Тогда Гудсон взял механический пульверизатор с флаконом, какой-то жидкостью наполненным, просунул между ключом и замком тончайшую трубочку и, нажимая резиновую «грушу», наполнил влажной пылью — до того получались мельчайшие брызги — комнату Ирмы.
И несмотря на все виртуозное мастерство Гудсона, можно было отгадать ухом чуть уловимое царапанье тоненькой трубочки, ходившей взад и вперёд в скважине. Вот, когда чудилось графине, что скребется мышь. Это не была игра воображения — это была действительность. Гудсон, оставив пульверизатор, выждал по часам ровно десять минут и уже смелей заработал щипчиками, снабженными какими-то нежными, как ножки насекомого, щупальцами. Эти щупальца, как живые, управлялись с «бородкою» ключа. В конце концов дверь открылась, и Гудсон смело вошёл в номер графини Чечени.
Электричество горело. У Ирмы так и не хватило воли погасить лампочку. А сама она лежит, разметавшись, бледная-бледная, охваченная глубоким сном. А может быть, это не сон, а вернее, какое-то непробудное забытье, название которому еще не придумано. Может быть, это временная смерть, смерть, когда тело едва-едва теплое и так слабо дышит…
Сняв свои тёмные очки, Гудсон с минуту глядел на нее. Линия тонких губ американского корреспондента искривилась улыбкой. И когда он сдернул вниз одеяло и глянула красивая, маленькая грудь, сквозь тонкий прозрачный батист, такая доступная — улыбка Гудсона превратилась в судорогу.
Но время бежит, и нельзя терять ни минуты. Он унёс к себе бесчувственную Ирму. И что-то странное и жуткое было в застывшей форме точёных и белых, свешивающихся ног молодой женщины. И сухо стуча, падали дорогою на пол черепаховые шпильки из густых волос, которые графиня, охваченная предательски подкравшимся забытьём, не успела распустить по-всегдашнему. Гудсон положил графиню на диван, прикрыл её пледом, а сам занялся узким и длинным, без малого в человеческий рост, чемоданом-сундуком из дерева, обитого какой-то плотной желтой массою, вроде линолеума, и опоясанного поперёк бамбуковыми обручами.
И оба дна, верхнее и нижнее, и стенки — были мягкие. Словом, такие удобства — не только вещи, хоть людей перевозить. Да, видимо, этот чемодан главным образом и приспособлен был для живой клади. Закутав графиню пледом, Гудсон положил ее в чемодан, как в гроб, лицом кверху. И добыв еще один подушечкообразный бинт, закрыл им все лицо Ирмы, пристегнув к её ушам резиновые петли. И когда все это было сделано, Гудсон направился в комнату графини, вернувшись оттуда со скомканными в небрежную охапку туфлями, юбкою и лифом. Все это вместе с меховым манто брошено было в другой чемодан, поменьше. Опять заработали стальные щупальца вокруг ключа и никто бы не сказал, что дверь из номера Гудсона к графине была открыта несколько минут назад…
К часу ночи «корреспондент» успел весь мобилизоваться. Все уложено, приведено в порядок, закрыто. Бросив последний инспекторский взгляд, уже теперь из-под тёмных очков, и убедившись, что все обстоит благополучно, Гудсон позвонил дежурного лакея:
— Счёт! Я уезжаю на позиции… Скажите внизу портье, пусть оба шофёра мои будут готовы. Пришлите сюда коридорных. Пусть снесут вещи!..
Спустя минуть двадцать, оба автомобиля, пронизывая ночную мглу яркими снопами фонарей своих, мчались друг за другом.
Вот уже остался позади железный мост через Вислу, промелькнули, сгинув, тусклые огоньки предместья, и ровным полотнищем убегало шоссе куда-то в глубь холодной осенней ночи…
Ирма проснулась. Это не было пробуждение. Какая-то вялость, какое-то смутное — ничего не разберешь — колебание между тягучей дремой и брезжащей явью.
Первое впечатление — слуховое. Какой-то длительный бурлящий шум… Всплески воды… И не могла понять сразу, откуда это, почему и где?.. Ах, это водяная мельница! И совсем близко. Но по соседству с «Бристолем» нет водяной мельницы!
По соседству с «Бристолем»?
Да разве она у себя?
Наглухо закрыты деревянные ставни, но свет пробивается в щель, и кое-что можно смутно увидеть. Ни мягкой мебели, ни электричества, ни зеркального шкафа, ни кожаных несессеров, ничего! Лежит Ирма на простой деревянной кровати. Под головою твердая подушка. Бахромчатый плед какой-то… Все это по меньшей мере дико…
Сознание никак не могло отрешиться от мысли, что это сон. Разумеется, сон. Какой-то неуловимый переход, и опять она будет под атласным стёганым одеялом, и верхняя часть широкой металлической кровати должна отразиться в прямоугольнике зеркального шкафа.
Но нет никаких превращений. Похолодевшая, стынущая Ирма закусила губы, закусила и чуть не вскрикнула — так больно! Это не сон. Это действительность и к тому же не сулящая ничего хорошего…
Как она очутилась здесь? Какая темная полоса чего-то непонятного, непроницаемого легла между тем, когда скреблась мышь, и этим пробуждавшем под бахромчатым пледом, на деревянной кровати. И она села, озираясь, и было желание куда-то без оглядки бежать.
Чья-то невидимая рука распахнула со двора один ставень, другой, и тусклое осеннее утро, вливаясь в забранное железной решеткою окно, озарило комнату.
Эта железная решетка ударила графиню по без того взвинченным нервам. Тюрьма! Она в тюрьме. Где же Вовка?..
Стук в дверь. Ирма инстинктивным движением закрылась пледом по самый подбородок.
В комнату вошёл Флуг, одетый спортсменом, с хлыстом и в гетрах. У пояса в жёлтом кобуре висел револьвер. Флуг, закрыв за собою дверь, галантно расшаркался, и эта галантность тысячами лезвий кромсала на куски бедную Ирму.
— Как изволили почивать, графиня? Конечно, это не «Семирамис-отель», в смысле комфорта и даже не «Бристоль», но ничего не поделаешь… — Он развёл руками. — Война есть война!..
Она смотрела на него застеклившимся взглядом. Она видела в нём, в этом человеке сатану… Флуг внушал ей какой-то суеверный трепет. Если б она могла трепетать?.. Ужас её был сковывающий, холодный ужас.