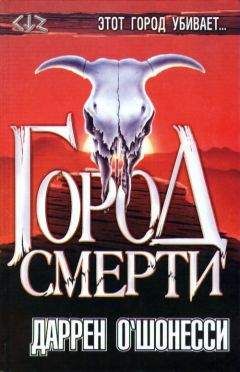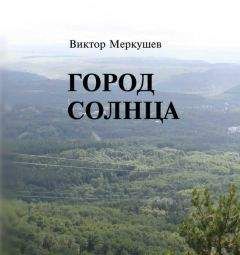Сигурд Хёль - Моя вина
Видимо, она задержалась в городе по какому-то делу — если только зрение меня не обманывало и это действительно была она. А тут как раз митинг, и она решила переждать, не осмелилась перейти площадь. Теперь я был почти уверен, что это она.
А может быть, доктор послал ее ко мне с каким-нибудь поручением? Мы договорились, что я буду у него вечером. Может быть, ее прислали сообщить, что встреча отменяется? Если так, это неосторожно, чертовски неосторожно…
На эстраде в это время слово взял хирдовец. Он что-то возбужденно говорил, что-то восклицал, выбрасывая руки вперед, колотил себя в грудь. Впрочем, я на него почти и не смотрел. Что он там говорил — меня тоже мало интересовало. Но отдельные слова все же долетали: единение, будущее, Норвегия. Обычная болтовня.
Дождь тем временем собрался с силами. Вдруг полило как из ведра. Гестаповец посмотрел на небо, передернул плечами и, выждав, когда оратор сделал паузу, чтобы перевести дух, что-то быстро шепнул ему.
Лицо у того стало злое, он тоже посмотрел на небо — он, видимо, до того увлекся, что не обратил внимания на дождь — и что-то сказал собравшимся, уже гораздо спокойнее. Я разобрал только одно слово: отель.
Все, кажется, только этого и ждали — сразу же, теснясь, двинулись к отелю: впереди офицеры, за ними оркестр, за оркестром хирдовцы во главе с оратором и, наконец, штатские.
На мгновение, пока шла вся эта толчея, я потерял девушку из виду. Потом поискал ее глазами — в подъезде ее не оказалось. Я удивился, шагнул ближе к окну, высунулся наружу — и увидел ее.
Да, это была Инга. И она шла к отелю. Она не спеша шла по тротуару по направлению к отелю — но, боже ты мой, зачем именно сейчас? Ну вот… но нет, она не вошла, прошла мимо, прямо через толпу, ни на кого не взглянув. Что это, демонстрация?
Но я заметил одну вещь, которой никогда бы, наверное, не заметил, не сложись обстоятельства в тот день так, что Инга оказалась в центре моего внимания. Когда она проходила мимо подъезда отеля, оратор-хирдовец как раз подходил к тротуару. У подъезда стояли два высоких мирта в керамических вазах. В одну из этих ваз она опустила свернутый листок бумаги. Не бросила, просто выпустила из руки. Хирдовец не остановился, только чуть наклонился на ходу, взял бумажку — так, словно он это сам потерял, — и вошел в отель. Она была уже довольно далеко. Она на него ни разу не взглянула и, пройдя, не оглянулась.
Я опустился на стул — на секунду. Потом отворил дверь и вышел в коридор.
Мой номер помещался на втором этаже. Отель был построен таким образом, что один ряд номеров выходил прямо на площадь, а второй, под прямым углом к первому, на боковую улочку. Перед комнатами шел коридор-тоже, получается, под прямым углом. Окна коридора выходили в помещение, которое некогда было, возможно, открытым двориком, а позднее здесь устроили нечто вроде зимнего сада. Оно было без перекрытий вплоть до верхнего, третьего этажа, с матовой стеклянной крышей. Там стояло несколько полузасохших пальм в кадках, из мебели — кресла, стулья, маленькие столики и рояль в углу. Помещение это использовалось в целях, в которых обычно и используются подобные помещения, — в качестве салона, курительной и своего рода бара, куда всегда можно было зайти выпить и поболтать. Прямо находилось кафе, а направо от меня — читальный зал и гостиная.
Я рассчитывал, что участники процессии соберутся именно в этом помещении. Так оно и оказалось. Они уже расселись вокруг на стульях. Посередине, на маленькой эстраде, стояли оба офицера и хирдовец. Он-то меня и интересовал. Необходимости в этом особой, может, и не было, но я все же хотел иметь еще и это доказательство — хотел посмотреть, прочтет ли он записку.
Одно из окон, выходивших в зимний сад, было открыто. В коридоре было полутемно, а зал ярко освещен. Под прикрытием темноты я мог спокойно наблюдать происходящее.
Я пришел вовремя. Он вынул записку из кармана, развернул и прочитал. В лице его что-то дрогнуло, он обменялся чуть заметным кивком с гестаповцем.
После этого он возобновил прерванную на площади речь. Я не слышал, что он говорил. Я увидел то, что мне было надо. И даже больше того. Когда он начал говорить, он сделал шаг вперед. Свет большой люстры упал на его лицо и осветил резко, как лампа фотографа. Я мог даже не заглядывать в тот старый альбом.
Я увидел самого себя. Самого себя в молодости.
ПРОГУЛКА В ТЕМНОТЕ
Я шел к доктору Хаугу. То шел, то бежал. Лил дождь; я подумал: плащ, но почему-то плащ был на мне. Я шел и говорил себе: не все сразу! Как заклинание. Не все сразу! Иначе ничего не получится.
Темнело все больше; к счастью, я хорошо ориентируюсь. Главное — не сбиться с дороги, не опоздать, не все сразу.
Я не сбился с дороги.
В окнах было темно — нет дома? Фу ты черт, война ведь, затемнение, не двадцать первый год. Не все сразу.
Мне открыла жена. Я спросил, дома ли доктор, у меня к нему срочное дело. Меня провели в кабинет, я вошел прямо как был, в плаще и шляпе.
У меня, наверное, был странный вид. Доктор вскочил:
— Боже мой, что случилось?…
Я сказал:
— Где Инга?
— Она в городе. У нее урок музыки. Но…
— Это она. Я видел, как она передала сведения молодому Хейденрейху. У нее связь с Кольбьернсеном. Я заметил вчера, как они переглядывались, но не придал значения. Кольбьернсен выдал ей сведения, может быть, сам того не подозревая. Надо начать с Инги. Поставьте ее перед фактом, не говоря, кто ее видел. Созовите группу, сообщите Кольбьернсену. Я еще вернусь, мне сейчас некогда.
Я выбежал, успев ухватить краешком глаза, что доктор Хауг стоит за столом и смотрит мне вслед, открыв рот.
— А как же… — услышал я, но в следующую секунду был уже на улице.
Дело было яснее ясного. Пусть теперь они пошевелятся. А мне некогда.
Мне было некогда — мне необходимо было побыть одному, без людей. Необходимо было какое-то время, чтобы все обдумать.
Второе дело тоже было яснее ясного.
Он был я, и все же не совсем я. Покрасивее, волосы немного темнее, лицо более мужественное. Но в кого это — я тоже знал, узнавал черта за чертой.
В тот самый миг, когда я увидел самого себя стоящим в зимнем саду, я вспомнил, я понял так много, что мне показалось, я сейчас с ума сойду.
Фру Хейденрейх — Мария — Мари — Кари.
Слова Хейденрейха тогда, весной:
«Как ты вообще-то, женщинам нравишься, а, детка? Хотя есть одна девушка, и чудная девушка, которая…»
Ее слова:
«Тебя знает один мой знакомый».
Тот день, когда она пришла и сказала, что все в порядке, тревога была ложная.
Ее лицо тогда — с того раза я ее больше не видел…
Неожиданная женитьба Хейденрейха, и его неожиданный отъезд…
Знал ли он? Это было единственное, чего я никак не мог знать.
Все остальное было ясно, яснее ясного. Стало ясно за какую-то долю секунды.
Сходство мальчика со мной в тот миг было столь разительным, что у меня возникло ощущение — нереальное, но отчетливее всякой реальности, — что это я стою там внизу, что это я предатель, шпион, продажная шкура, потому что он-то ведь предатель, шпион, продажная шкура, этот живой портрет моей молодости там, на сцене. Что это я…
Нет, так с ума можно сойти.
Необходимо было продумать все как следует, по порядку. Пройтись немного, чтобы собраться с мыслями.
— Как будто это поможет!
Словно кто прокричал мне эти слова в самое ухо.
Поможет или не поможет — это уже дело другое.
Дождь лил по-прежнему. Было уже почти совсем темно. Я вышел из калитки и пошел вверх по улице по направлению к городу.
Когда она пришла ко мне в тот день (это было в начале сентября двадцать первого года) — боже мой, то же число, что сегодня, значит ровно двадцать два года назад; поздравляю с юбилеем! — она так была перепутана и в таком отчаянии, что начала было говорить — и не смогла. Я сначала пытался ее успокоить, но ничего не выходило. Наконец ей удалось выдавить из себя, что это… это… не пришло. Уже целая неделя. И… и… всякие другие вещи… изменения — раньше с ней никогда такого не было.
— Я уверена! — сказала она.
Больше она ничего не говорила, только плакала.
Я опять пытался ее успокоить. Я говорил, что уверенности никакой быть не может. Но мы в любом случае как-нибудь это устроим. Срок ведь еще маленький, если вдруг окажется…
У меня все время было какое-то странное нереальное чувство. Будто я смотрю на себя со стороны, а этот второй я все говорит, говорит… Как во сне… «Ну конечно, мне это снится!» — думал я. Но где-то под сердцем будто завязался железный узел. Боль была острая, резкая. И эта скрутившая меня боль словно издевалась надо мной: увы, голубчик, это на самом деле, самая настоящая реальность, и ты это прекрасно знаешь!
Мне удалось ее немного успокоить. Удалось остановить слезы. Удалось даже заставить улыбнуться разок, уж не помню чему. Она улыбнулась сквозь слезы на ресницах — я помню, какая она была красивая в ту минуту, хотя лицо все опухло от слез. Но ее красота не подействовала на меня живительно, как это всегда бывало. Она… да, это так — она меня скорее даже раздражала.