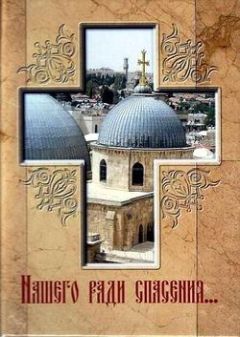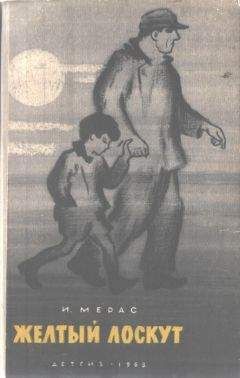Юлиан Шульмейстер - Служители ада
— Все, что имели, забрали при последней контрибуции.
— Опять обманываете! — прикрикнул унтершарфюрер и строго предупреждает: — Это плохо кончится.
— Не обманываю! — безучастно говорит Фира, вспоминая, как во время контрибуции сидели на нарах ее Натан, Ефим и Семен. Так же сидели! Больше ни о чем не думает, не может думать.
Перетрясли немцы убогую обстановку, перевернули вверх дном. Ничего не нашли, польстился шупо на самопишущую ручку покойного Лазаря.
Неохота унтершарфюреру копаться в жалком еврейском тряпье, во многих квартирах ничего не нашли. Однако у кого-то находят, надо искать. Приказ губернатора, точнее — Берлина, должен быть выполнен. Это их, эсэсовский, вклад в победу.
— Снять всю одежду!
Раздевается Фира, вжались в угол Натан и Ефим, затравленно смотрят на немцев.
— А вы команду не слышали?! — прикрикнул на детей унтершарфюрер. — Раздеваться, не то со шкурой рубахи сдеру.
Разделась Фира, осталась в нижней сорочке. Путаясь в застежках и пуговицах, поспешно раздеваются мальчики.
— И сорочку снимайте! — приказывает Фире унтершарфюрер.
Эсэсовцу противно глядеть на нечистое, с выступающими ребрами тело еврейки, нет в нем ничего женского, никакой привлекательности. Ничего не поделаешь — обыск есть обыск.
Стоит Фира, прикрыла обеими руками низ живота, рядом дрожат голые Натан и Ефим. Проверили немцы одежду, унтершарфюрер приказывает Фире:
— Одеться!
На следующий день Фира отправилась в отдел труда юденрата. Моложавый, с аккуратно подстриженными усиками чиновник пригласил сесть:
— Слушаю вас.
— До сих пор была гаусгальт, теперь нет мужа, работал в городских мастерских.
— Желаете поступить на работу?
— Нельзя умирать: двое детей.
— Имеете специальность?
— Было пятеро детей, трех потеряла на прошлой недоле.
Подумал чиновник, покопался в бумагах и засиял лучезарной улыбкой, будто не слышал о гибели детей и мужа:
— Не знаю, пани, родились ли вы в рубашке, или под счастливой звездой, но вам исключительно повезло. Дам вам люксусовое место на швейной фабрике Шварца. Очень солидная немецкая фирма, прекрасные помещения, первоклассное оборудование. Правда, начинать придется с работы подсобницы, но не сомневаюсь, что сумеете сделать карьеру.
Берет Фира направление, даже не верится, что все так просто уладилось. Надо бы поблагодарить чиновника — нечем.
— Вы мой спаситель, буду молить за вас бога! — капает слеза за слезой, — Извините, ничего не принесла, одно горе осталось дома. Будет возможность — обязательно отблагодарю.
— Спасибо, пани! — сухо, без тени улыбки, произносит чиновник. — Так говорят все неблагодарные люди, и почему-то у них короткая память. Ничего, это я так, между прочим. Будьте здоровы и счастливы.
Вышла Фира из отдела труда, жжет стыд, будто ей надавали пощечин. Конечно, надо было что-нибудь принести этому благородному пану, но завтра не на что купить хлеб. И он как-никак должен иметь понятие — только что погибли дети и муж.
Чем ближе к дому, тем меньше думает о чиновнике, одолевают заботы. Последний свободный день, многое надо успеть. Прежде всего получить по карточкам хлеб, затем постирать белье, много скопилось, а мыла нет. И еще высыхают мозги, чем сегодня кормить детей и что оставить на завтра. Надо бы навестить сестру, две недели не виделись. Живы ли?..
Целый день провозилась, так и не выбралась к Певзнерам. Вечером зашла к Симе Вайс — работнице фабрики Шварца. Стала расспрашивать, Сима ответила немногословно:
— Не о чем говорить, завтра сама хлебнешь этого счастья!
В шесть утра Фира и Сима поплелись на фабрику Шварца. Почему она так называется? Это фамилия немца, захватившего фабрику, живет в Берлине, во Львове его управляющий. Полторы тысячи евреек из гетто ежедневно работают по двенадцать часов за самую выгодную для хозяина плату — мельдкарту, дающую право на жизнь, миску баланды и несколько ничего не стоящих злотых.
Дошли до улицы Святого Мартина, фабрика — пять больших корпусов. Фира зарегистрировалась в конторе, дежурная отвела в цех. Оглушил неумолкаемый треск. Сменяют друг друга ряды швейных машин и столы для подсобниц. Машины и стол, машины и стол, машины и стол, однообразие согнутых спин.
Дежурная подвела Фиру к форарбайтерин:[44]
— Подсобница!
Усадила форарбайтерин Фиру за стол, дала четыре пары поношенного мужского белья.
— За смену отремонтируй, дырочки латай аккуратненько, мелким швом. Не выполнишь норму — уволят.
Уволят! Вот почему не разгибаются спины и усердно мелькают иголки. Перебирает Фира рубашки, они чисто выстираны, а видит кровь и чувствует пот чужих тел. Дырочки — пулевые пробоины! Может, кто-то рядом ремонтирует рубашки Натана, Ефима, Семена?..
2.«Почему Фалек стал Гершоном Акселем? — теряется Наталка в недобрых догадках. — Почему нет от него ни одной весточки?».
Каждый вечер мчится к возчику Бородчуку, тот виновато бормочет: «Никто не приходил, пани Наталка!». Каждое утро прибегает к воротам кожевенной фабрики, ждет появления колонны из гетто. Ждет! Пугает пустота мостовой, видит в ней гибель любимого… Пустоту заполняют оборвыши — семнадцать четверок, само страдание и муки. Вторым в предпоследнем ряду идет Фалек.
В сердце Наталки врывается радость: «Жив!.. Жив!.. Жив!..». Но с радостью врывается и боль: «Худой, измученный, — в чем душа держится?». Хочется подбежать и обнять. Обнять! Как-то попыталась передать кусочек хлеба — плетью ударил полицай. Терзали унижение и боль — ее и Фалека. Он ринулся к ней — удержали другие оборвыши. Наталка больше не ищет встречи, засыпает и просыпается с мыслью: «Как встретиться?». Каждый день из фабричных ворот выезжают подводы. Может, надо посоветоваться с Бородчуком?
Крепко спаяно братство ломовиков — владельцев подвод. Пьяницы, драчуны и задиры стоят друг за друга нерушимой стеной. Бородчук хорошо знает Бучацкого — возчика кожевенной фабрики, такого же, как он, выпивохи.
— Приходи, дочка, завтра вечером, приволоку пана Ивана.
Длинно-предлинно тянулся вечер, мучила ночь, день нудно отсчитывал секунды, минуты, часы, и все же наступил вечер.
Дверь открыл Бородчук, подмигнул заговорщицки. За столом дымит трубкой Бучацкий — пожилой, краснолицый, доброжелательный матерщинник.
Достала из сумки бутылку, поставила на середину стола. Хвалит Бучацкий:
— С понятием пани!
Стефа ставит на стол соленые огурчики, квашеную капусту, ломтики розового сала и разваристый, овеянный паром картофель. Рядом с Наталкиной возвышается другая бутылка. Выпили за знакомство и за хороших людей. Еще раз выпили за то, чтоб подохли Гитлер и все его воинство.
Стала Наталка расспрашивать о хозяине фабрики, Бучацкий пренебрежительно хмыкнул:
— Сволочь! Ради барыша залез в дерьмо по самое горло. Дай боже, чтоб засосало по уши.
И за это выпили. Рассказывает Бородчук о Наталкином горе.
— Поможем! — обещает Бучацкий, будто это само собой разумеется. — Ничего, что еврей, люди как люди, встречаются совсем неплохие. Помнишь ломовика Хаима Брука? — напоминает приятелю. — Дай боже, чтобы все христиане были такие. И никто не знает, где он, что гады с ним сделали.
Разлил Бородчук по рюмкам, выпили за здоровье Хаима Брука.
— Не горюй, дочка! — хлопнул Бучацкий по Наталочкиному плечу. — Привезу весточку от твоего Хвалека.
— Можно, я утром принесу небольшую посылочку?
— Нечего ноги топтать! — отвечает за друга Бородчук. — С этого стола соберем твоему мужу гостинец.
Каждый день Бучацкий привозит на фабрику шкуры. Лежат на подводе отдельными связками полукожник, бычок, бычина, бугай и яловка.[45] Фалек и разнорабочий Семен разгружают подводу, носят связки в подготовительный цех. Там шкуры отмачиваются в огромных чанах, затем с них удаляется волос и наружный слой — эпидермис. Входящего в цех обволакивает тошнотворная вонь — смесь сернистого натрия и извести.
Носится Фалек со связками кожи, спешит побыстрее разделаться с неприятной работой. Когда взялся за последнюю связку, Бучацкий задержал его:
— Как пана звать?
Взглянул подозрительно на возчика, все же ответил:
— Гершон Аксель!
— Тогда для пана имеется письмецо и посылочка. Кладите связку назад, завязывайте шнурок на ботинке.
«Наталка нашла ход!» — учащенно забилось сердце. Повозился с ботинком, снова взялся за связку, между шкурами пакетик, за тесемкой белеет письмо. Спешит в цех, навстречу шествует Давидяк. Поклонился со шкурами на спине, облегченно вздохнул, когда между ним и хозяином оказалась дверь.
Подошел Давидяк к подводе, поздоровался:
— День добрый, пан Бучацкий!