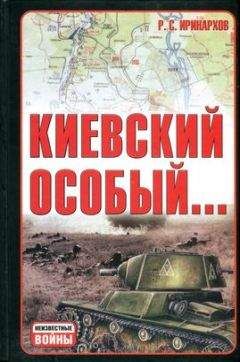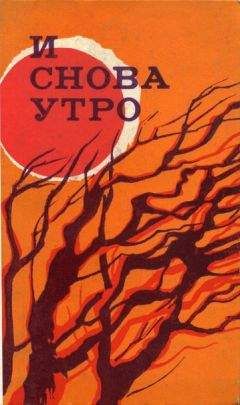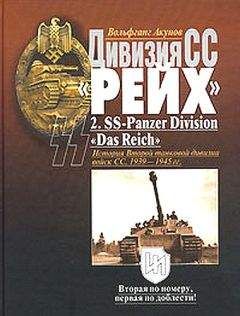Анатолий Кудравец - Сочинение на вольную тему
На том и порешили: назавтра берет он поросенка, идет ко мне, а от меня уже вместе туда, за гарь. У меня тогда трехстволка была, шестнадцатый калибр, центральный бой, зайца за сто метров доставала…
Игнат Степанович чмокает губами, прикрывает глаза, затихает. Быть может, заснул — с ним и такое случается. Валера некоторое время выжидает: не заговорит ли снова, — нет, не похоже, — и тихо выходит из хаты.
Выгребает угли из каменки, выносит на двор, заливает водой. Долго смотрит в печку, где догорают, роняя искры и переливаясь рдяно-синими огоньками, собранные в кучку оставшиеся угольки, заливает и их, дожидается, пока не остынет, не выйдет влажный дух, окатывает водой полок, скамейки — они дымятся сизым паром, — наливает горячей воды в кадушку — запарить веники, выплескивает кружку воды на камни — смыть их, обогреть полок. Идет домой, берет белье, мыло. Отца все еще нет. Заходит за Игнатом Степановичем. Тот дремлет, свесив голову на плечо, но, как только появляется Валера, сразу подает голос:
— Назавтра я нарубил олова, накатал картечи, шесть патронов с картечью, четыре с пулями, не считая нижнего ствола (у меня и для него три патрона было), — это ежели по два патрона на голову — шестерых смело можно уложить. Только стало смеркаться, заявляется Прыжок с мешком за плечами, а в нем на дне шевелится что-то живое. Говорит, самого лучшего парсючка взял. И правда, повизгивает тихонько, а голосок звонкий. Я ему, говорит, пятачок петелькой затянул, чтобы голос был веселее.
Валера садится — дослушать, что было дальше.
— Идем мы, снег скрипит под ногами, а поросенок жалостно канючит. Антон взял его на руки, как дитя, он пригрелся и затих. А мороз до-о-обрый, в носу молодит. Пока дошли до болотца, чуть прояснилось. Есть такая пора зимой, в пилиповку: на стыке дня и ночи неожиданно стемнеет, серое на глаза крадется, а потом так же неожиданно прояснится, и опять видно как днем. У меня на ногах бурки в бахилах — военные заезжали, аж три ската сразу пропороли, нужно было камеры залатать, так они мне бракованную, из красной резины, оставили, четыре пары бахил вышло, крепкая резина была; у Антона — лапти.
Выбрали мы две елки слева от болотца, у дороги, метрах в пятнадцати одна от другой, я на одну залез, Антон на другую, поросенка под елкой оставил, только веревку от мешка в руке держит. Скажу, место выбрали мы удачное, все просматривается: и болотце, и гало, и выход с гари. Волк — зверь мудрый, никогда не угадаешь, откуда он к тебе заявится. Боронь бог стать с подветренной стороны, за километр чует человеческий дух, а порох — и того дальше. Но тут все было за нас: вечер тихий, ни ветерка, ни звука — будто все вокруг застыло, в землю вмерзло. Даже собаки в селе перестали обзываться. Примостился я на елке: под ногами два толстых сука, задом опираюсь на третий — чтобы и сектор обстрела был, и прицелиться можно было, бить так бить. Шли — мороз чувствовался, а притихли на сучьях — он под кожух полез. Поросенок тоже холод чувствует — «ги» да «ги». Сложил это я руки и осторожно, для разведки, подал голос по-волчьи: мол, отстал от своих, где вы?
Никто не откликнулся. Я этого и ожидал: волк редко откликается на первый зов. Идет на него, а не откликается. Собаки только зашлись в силе, их я сразу купил, считай, за медный грош. Выждал немного, пока все не улеглось, сложил руки трубой, захватил побольше воздуха и повел — сперва тихонько, бытта из-под корча, а потом шире, шире, на всю грудь, да жалобно так, с тоской, и все выше, выше, а затем вниз, на спад, и так затаенно, с отчаянием, бытта остался один на всем белом свете — ни родни тебе, ни доли.
Скажу тебе, волки очень красиво воют, они как бы плачут по себе, и, может, оттого волосы встают дыбом на голове у человека, что он понимает их плач. Бывает, еще баба в отчаянье так заголосит, тогда не только волосы встают, сердце переворачивается…
Снова подняли гвалт собаки и долго не утихали, а улегся лай, послышался волчий голос. Этот голос я узнаю из сотни голосов. «Ну, — шепчу Антону, — подшевеливай своего парсючка», — а сам стал потверже на суках, чтобы не свалиться вниз, когда придет время стрелять.
Тут послышался еще один волчий голос, совсем близко и за спиной. Вот тебе и на, ждали гостей с одной стороны, а они с другой пожаловали. И поросенок заволновался в мешке, сколько той животины, а, видать, почуял зверя, кому помирать охота. Я осторожно поворачиваю голову, взглянуть, где он, гость долгожданный, и ствол веду за собой. Вижу, тень на снегу. Кажется, близко, а прикинул — метров двести, стрелять не станешь. Глянул левее — еще одна тень, чуть дальше еще… Семь штук насчитал. Расселись полукругом, головы позадирали вверх, вроде на звезды дивятся: и ближе не подходят, и не отступают. Потом начали перебегать с места на место, гыркать один на другого, без злости, бытта переговариваются меж собой. Выходит, не мы их, а они нас с Прыжком взяли в клещи и не собираются выпускать.
А тут, братка, и мороз жмет, чувствую, ноги деревенеют, руки зябнут; металл, он и через рукавицу достает, а правая и вовсе голая, на курке… Антон тоже голосить начинает: «Браточка Игнат, давай выбираться, а то они нас совсем заморозят…» Выбираться-то, выбираться, но как: они от села нас отрезали. Думаю, дай-ка пальну разок, убить не убью, так хоть припугну, — может, разбегутся, тогда и пойдем.
Выстрелил — и как кнутом по воде; забегали они, засуетились, а отступать не собираются и круг не сужают.
Скажу тебе, тут и ко мне стал подкрадываться страх. Хорошо рассуждать про волков, сидя на печи, а когда видишь их перед собой таким подразделением… Оно-то конечно, трехстволка у меня знатная, и бью я без промаха, утку на лету за пятьдесят метров снимаю, а Залесский Казик на спор подкинул было шапку, метрах в тридцати, — решето из нее сделал, больше он и не надел ее. Но тут — другое… Да еще и Прыжок ноет, знал бы — не брал бы с собой. «Браточка Игнат, я уже ноги отморозил, что Тэкле скажу, давай что-то думать. Руки нет — ладно, а как же без ног…» Думай не думай, а надо прорываться. Антон просит: «Ты, Игнат, первым прорывайся, а я за тобой, не то они в одну секунду разберут меня по косточкам».
Спустились мы на землю, потоптались немного, чтобы ноги отошли, на руки похукали. Говорю Антону: надо бросать поросенка; пока волки разберутся с ним, мы и смотаемся.
Что ты! «Меня, говорит, Тэкля на порог не пустит. Сам вернусь или нет — ладно, а ежели завтра она парсючка недосчитается, со свету сживет». Страх перед женкой бывает страшнее войны, что ты поделаешь. Говорю, ну и пропадай вместе со своим парсючком, только не отставай, а то они вмэнт разделят тебя. Двинулся я вперед, курки на взводе, один ствол с картечью, два с пулями, быть не может, чтобы не прорвались. Идем в лобовую прямо на их строй, такая, знаешь, психическая атака. А они сидят, как пни, только глаза зелеными искрами поблескивают.
Метров пятьдесят идем — волки ни с места, как попримерзли. У меня хоть и ружье в руках, а волосы дыбом вздымаются. Подпустили они нас метров на сто, потом нехотя скок-скок в стороны — и опять сидят, как почетный караул какой, во дела. Словом, прорвались.
Подходим к селу, Прыжок просит: погоди. Ну что ж, теперь можно и подождать. Остановились, стал я закуривать, а руки не слушаются: и замерзли, и со страху дрожат. Прыжок протягивает мне бутылку: «Возьми-ка, глотни. Это ж брал с собой, думал, убьем какого злыдня — так за его грешную душу выпьем, да не довелось…» Беру я бутылку, а там на самом дне и осталось: он, пока сидел на елке, чуть не все выдул. А я-то думаю: чего он там все шевелится, места себе никак не найдет?.. Игнат Степанович смеется тихим детским смехом, не иначе как над самим собой, и вдруг смолкает. Видимо, он снова уже где-то там, в своей памяти, которая бережно сохранила все, что с ним было — хорошее и плохое, веселое и тяжкое. Хотя послушаешь его, так тяжкого вроде у него и не было — все просто и ясно, как во сне.
— И думаешь, я с ними так мирно и разминулся? Не-е-ет… Волк — не тот зверь, который может простить свой позор и насилие над собой, — все тем же веселым голосом продолжает Игнат Степанович. — У меня тогда сука была, Румзой звали, это уже после Галуса я нашел ее. Зайца за полсотни метров чуяла, а лису — и за сто. Добрая была сука, что хитрая, что умница, и двор сторожила. Прошло два дня после нашего похода с Прыжком на волков, морозы тогда крепко держались, хата за ночь выстынет так, что утром не хочется из-под перины нос казать. Как раз была суббота, я истопил баню, попарились вдоволь, повечеряли с чаркой, бывает, и чарка идет на здоровье иной раз. А после бани да после чарки жизнь раем кажется. Ага, так слышу где-то под первые петухи, бытта сука завизжала. Я послушал еще — тихо. Начал было засыпать, а она опять как зальется. Вижу, дело на зверя похоже. Я на ночь в хлев ее запирал, от волков: пока схватишь ружье да выскочишь — поздно будет. А она вылезла, дуреха. Пока валенки вздел, кожух на плечи, ружье со стены — все стихло. Выскочил за хлев, пальнул в белый свет, пробежал недалечко, за сотки. След видно волчий, но один. Здо-о-оровый, наверно, взял за воротник мою сучечку и понес, как злодей куль соломы. Пальнул еще раз, так, для постраху, и повернул назад. А чуть развиднело, пошел по следу. Километра два прошел вдоль леса, по ручью, вижу, в кустах что-то рыжее. Подхожу ближе: лежит на снегу хвост ее, сучечки моей… Ну что ж, думаю, доверчивая твоя душа, хорошо ты служила, хоть хвост на память оставлю. Потянул за хвост — не поддается, не иначе примерз. Дернул сильнее — загырчала под снегом. А она еще жива была. Он, шельма, передавил ей глотку и закопал в снег. Не голодный был, думал вернуться. Взял я ее на руки, принес домой, в хату. Отогрелась, ожила. Дал молока — а оно выливается через рану, он перекусил ей горло. Зашил я рану, стали отпаивать. Все больше Леник, он не отходил от нее. Больно жалостливую душу имел ко всему живому. Но ничто не помогло… протянула она три дня и сдохла… Во тебе — волки. Встретил я Прыжка и говорю: «Плати, брат, компенсацию. Пожалел поросенка, так они суку обобщили, да какую суку!» Но что ты с него возьмешь, когда он в хату свою готов через окно лезть, чтобы Тэкля не учуяла, чем от него пахнет.