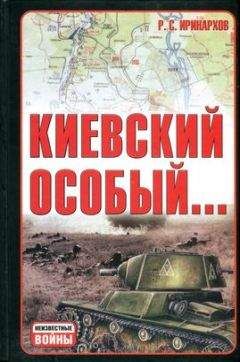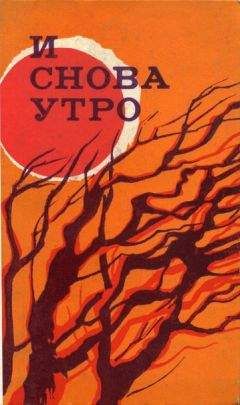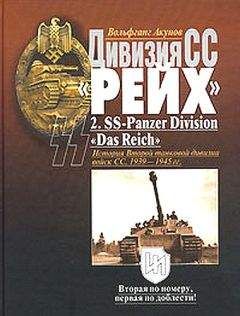Анатолий Кудравец - Сочинение на вольную тему
XVIII
Сидишь дома — вроде все идет ровно и гладко, прямо скука берет, особенно зимой, а стоит отлучиться куда на денек-другой — и начинается…
Валера ездил к старшей сестре, посмотреть, как они там — давненько не писали, — а заодно разузнать насчет института механизации: как бы это, чтобы поступить. Всего-то неделя и минула, как из села, успел только пособий разных понакупить для поступления, на предстартовый мандраж настроился — и на тебе: уже отъезжая, встретил на вокзале Алешу Миколкова, и тот, как о чем-то пустом, случайном, ляпнул: «А ты знаешь, твой Вопщетки того, го-о-тов…» Ляпнул и спокойно пошел своей дорогой.
Ошарашили не столько сами слова о смерти Игната Степановича, сколько то, как об этом было сказано. До чего все, оказывается, просто: жил человек — а о нем вот так можно: «го-о-тов».
Все лето они работали вместе на мельнице: Игнат Степанович «начальником», «комендантом», Валера — учеником.
Валера видел его перед самым отъездом. «Ты, вопщетки, загляни в магазин запчастей, мне Степан Евменов говорил, там противотуманные фары есть, возьми парочку мне для мотоцикла. Я бы и золингеновскую бритву еще одну взял, попадись где, да у тебя, видать, времени в обрез будет. Скажу тебе: эта у меня тридцать три года, а наведешь — идет по щеке, как по отаве».
Все это Игнат Степанович говорил в своей хате, и говорил так, будто собирался прожить еще по крайней мере лет пятьдесят.
Конечно, все люди смертны, тем более в таких поздних летах, но слова Алеши холодом обдали Валеру. Так с закаменелым сердцем и просидел всю дорогу в автобусе, даже ноги размять не вышел.
В поселок с того конца, где стояла хата Игната Степановича, а напротив — ихняя, входил медленно, как идут к покойнику. Вывернул из-за частокола в проулок, а от колодца к своему двору как ни в чем не бывало чешет сам Игнат Степанович: в руках ведра с водой, в щербатом рту — трубка. Увидел Валеру, широко заулыбался:
— Вопщетки, надо было дать сигнал телеграфом или другим способом уведомить, я бы подскочил на мотоцикле. Он, скажу тебе, и по снегу тянет как зверь.
Валера смотрит на Игната Степановича, пытается разгадать дурацкую задачу, которую подкинул на вокзале Алеша, и радостно, без обиды на того, думает: «Ну и оболтус же ты, Алеша, такой оболтус…»
Он как будто впервые рассматривает Игната Степановича, словно только сейчас по-настоящему разглядел его.
У Игната Степановича большая голова, длинные редкие волосы. Зубы, когда-то крупные, крепкие, повыкрошились, осталось, наверное, штук семь на весь рот. Иногда кажется, что с этими немногими зубами ему, наверное, даже лучше, чем если бы их был полон рот. Куда бы он тогда со своей трубкой? А так защемил в щербинку — и пусть висит себе: и с человеком можно говорить свободно, и сплюнуть, если захочется. Игнат Степанович даже зазор на мундштуке прорезал, чтобы крепче держалась промеж зубов. Так и ходит с трубкой во рту целый день, сосет, как дунду, пока не спохватится, что в ней давно все выгорело. Тогда вынимает изо рта, вооружается шилом, долго ковыряет, вычищая нагар и пепел, заново набивает самосадом — он и теперь, хоть кругом засилие магазинной махорки да папирос, сажает его на огороде за хлевом, — раскуривает, зажимает в щербинку.
Валера опускает на снег чемодан, Игнат Степанович ставит ведра, и серое небо плавно и слюдяно колышется в воде. Некоторое время молча стоят друг против друга, радуясь встрече, как будто потеряли было надежду на нее.
— Я думал, дядька, ты уже съездил в район, зубы вставил, — наконец находит что сказать Валера.
— Оно, вопщетки, и с этими зубами жить можно, было бы что жевать, — оправдывается Игнат Степанович. — В район ехать — это, считай, целый день стереть. И хорошо, если еще управишься. Сказать по правде, я бы и сам выточил их и вставил — подходящего металла нету.
Игнат Степанович говорит это серьезно, как давно обдуманное, а сам вглядывается за плечо Валеры в конец поселка: там, левее курганов, широким белым клином лежит заснеженное безмолвное поле. Нечто грустное, как неисполненное давнее желание, серым туманом застилает его глаза. Валера не сомневается, что Игнат Степанович и вправду взялся бы за это мудреное дело — выточить и вставить себе зубы, лишь бы «подходящий» металл нашелся, а уж какие там были бы зубы и как бы он их вставлял — это другое дело…
— Так что, дядька, может, баньку сварганим?
— А оно и не грех будет. После простуды что-то в груди осело. Пока ты ездил по столицам, я считай что побывал там, — Игнат Степанович кивает вверх, на небо. — Хвороба, брат, входит граммами, а выгонять ее надо килограммами. Ты знаешь, разогрелся, выбегавши за кабаном вхолостую километров двадцать, хватанул воды со льдом. Всего-то какой-то глоток, и, кажись, не шибко чтоб холодная была, а нашла своего микроба. Доктор говорит: воспаление легких… А признаться, кабанчик был добрый, пудов на шестнадцать, и я считай что взял его, да собака, падла, подвела, домой сбежала. Я тебе скажу, дикий кабан шуток не понимает, на чистом с ним лучше не встречаться, на порох идет, как снаряд, с пятидесяти метров второго выстрела не успеешь сделать. Хорошо, ежели бьешь из засады, а ежели на открытом — берегись! Берегись и бойся… Помнишь Мана из Ядреной Слободки? Брат его с австрияками в ту войну в Голиции воевал, уже тогда телефонистом был при штабе. Умный мужик был, немцы ни за что расстреляли в эту войну. Кто-то сболтнул, что он с партизанами связан, а кто не был связан? Сделали обыск. Окромя ружья еще и пистолет нашли, в хлеву под навозом был спрятан… Ружье — это понятно, что за охотник без ружья, а пистолет… Почему не сдал?.. Они этого не любили, да и кому понравится… Так вот, пошли мы на охоту, я тогда совсем молодой был, выследили кабанчика. Кабанчик не кабанчик, а секач добрый, пуда на двадцать три, клыки — по полметра каждый. Надоело ему водить нас по лесу — пошел через поле в молодой сосняк. Ман за ним, мы немного отстали. Сосняк тот небольшой, с мои сотки. Обошел Ман кругом: не видать, чтоб кабан где вышел, не иначе — залег. Вернулся Ман назад, на след, идет, приглядывается, видит: что-то темнеет в кусте. Темнеет и шевелится, чухкает. На кого ты чухкаешь?! Сложился он да как чухнет! И стрелок был добрый, и бил под левую лопатку, а не успел и глазом моргнуть, как чует, что едет куда-то — задом наперед. Кабан двинул ему промеж ног и попер. Метров сорок провез, пока тот не съехал в снег, кабан как шел, так и дальше пошел… Тут как раз и мы подоспели. Ман еще подхватился с горячки, пошутил: «Во проехал так проехал» — и тут же свалился. Секач как зацепил клыком ногу, так и располосовал от ступни до паха. Подхватили мы его на руки да на сани, в больницу, чуть спасли. Я тебе говорю, кабана просто так не возьмешь. Но я знаю, где этот обитает. Нехай трошки подрастет, да и я поправлюсь — прижучу… Хочешь, вместе пойдем, у меня запасное ружье есть, и бой хороший, а? — Игнат Степанович глядит Валере в глаза.
— Не-е, какой из меня охотник, — Валера хитро усмехается. — Хотя мы с вами один раз ходили на охоту. Помните, на лису, на Горавщине. Я в третий или четвертый класс ходил. «Валера, загоняй, четвертная на конфеты!» Я и пошел загонять. А она как мотанет, только хвост и видела. «Четвертная на конфеты…»
Игнат Степанович слушает Валеру спокойно, сосредоточенно: неужели и вправду было такое?
— Вопщетки, лису гвалтом не возьмешь. Она сама может такой гвалт организовать, особенно ежели к курам или к гусям дорогу найдет. Чем больше неразберихи, тем ей способнее. А чтобы взять ее, чего не дал бы: из нее воротники и шапки важнецкие выходят. Правда, надо знать, когда бить и как выделать. А то бывает, возьмет который, а она того, голая. Мы тогда с тобой в самое время вышли, и кабы все шло по плану, шапку ты до-о-обрую заимел бы…
— Я лучше, дядька Игнат, баню организую.
— Вопщетки, ты правду говоришь. Здоровье тоже надо беречь… Растапливай, а там, глядишь, и батька подъедет — повез скотину на комбинат, то нехай бы и он кости погрел.
Баня у Игната Степановича маленькая, новая, стоит в саду поодаль от хаты и хлева, и спустя какой-нибудь час из высокой асбестовой трубы ее потянулся вверх, будто нехотя, осторожный дымок. Дрова были сухие, горели гулко, но, пока нагреются камни и вода, есть время посидеть в теплой хате, поговорить. И они сидят: Игнат Степанович ближе к печи, ему зябко, Валера — чуть подальше, откинувшись на высокую спинку стула и закрыв глаза.
— Вопщетки, если глянуть со стороны, то может показаться, что человеческая жизнь — немногим более чем сумма парадоксов, но оно совсем не так. Я тебе скажу: нет ничего страшного на этом свете. Надо только иметь терпение и упрямство не лезть по-дурному на рожон и знать, чего хочешь. Дайжа когда тебе небо покажется с овчинку и нет корки хлеба положить на зуб. У каждого в запасе остается смерть, как у того солдата маршальский жезл. А это уже серьезно: смерть ничего не хочет оставлять человеку. Разве что камень в головах да бугорок земли. Да и то когда-нибудь все это зарастет травой и мхом. Смерть, как женка, не любит ни с кем делиться, хочет командовать единолично, и перехитрить ее трудно. И что интересно: смерть, как и баба, выбирает лучших.