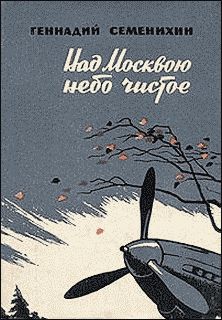Сергей Каширин - Предчувствие любви
Тематический вечер проходил в солдатском клубе. Здесь обычно проводились служебные совещания и собрания, поэтому обстановка была для нас привычной. На невысоком помосте, служившем сценой, стоял покрытый красным сукном стол. За столом сидели капитан Зайцев и старший техник-лейтенант Рябков. Справа от них возвышалась сколоченная из фанеры и выкрашенная в коричневый цвет трибуна. Пономарев, впрочем, от трибуны сразу же отошел. Заложив руки на спину, он встал около стола и говорил, устремив на присутствующих горделиво-вдохновенный взор.
— Давно ли родилась профессия летчика? — вопрошал он и сам же отвечал: — Нет, кажется, совсем недавно. Если вести счет с полетов первых аэропланов, то всего лишь несколько десятилетий назад. Но, по-моему, она родилась значительно раньше. Пожалуй, еще тогда, когда рязанский подьячий Крякутной первым в мире поднялся в небо на воздушном шаре. Помните… Впрочем, я позволю себе процитировать летопись по памяти. — Валентин приосанился: — «Тысяча семьсот тридцать первого года подьячий Нерехтец Крякутной Фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом зело поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в нее, и нечистая сила подняла его выше березы и ударила о колокольню. Однако он успел ухватиться за то, чем звонят, и тако остался жив…»
Ну, а если прикинуть, если вникнуть, — продолжал Валентин, — то летная профессия является еще более древней. Она ведет свою родословную от тех безудержно-отчаянных людей, которые дерзали бросаться с колоколен на крыльях из досок, из веников и из холста.
В зале послышались покашливания, скрип стульев, шепот и смешки. Слишком уж издалека оратор начал. И кое-кто с ехидцей подсказал:
— Раньше. С полетов на ковре-самолете.
— А может, и так, — отозвался Пономарев. — Ведь я о чем? Чтобы подняться ввысь хотя бы в мечтах, тогда нужно было обладать великим мужеством. В те времена в небе обитали только боги, из туч метал свои огненные стрелы Перун. За одну только мысль о попытке проникнуть в божье царство человека казнили. Помните, как смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп, пытался летать? — Валентин опять ввернул цитату: — «Человек не птица, крыльев не имать. Аще же приставит себе аки крылья деревянны — против естества творит… За сие дружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову, — повелел Иван Грозный. — А выдумку, аки дьявольскою помощью снаряженную, после божественной литургии огнем сжечь».
А потом? — воодушевлялся Валентин. — Что ни взлет — гибель. Один упал — разбился, другой… Бог, значит, карает, не пускает в небо. А смельчаки все же не отступали. Они отвоевали небо у богов и подарили его людям. Разве не ясно, какие это были храбрецы? Они были рождены для подвига, и они совершили его! Майор Филатов сидел в первом ряду. Откинувшись к спинке стула, он хмуро уставился на Пономарева. Комэск пытался перехватить его взгляд и дать понять, что пора переходить ближе к теме. А Валентин, видимо, нарочно не встречался с ним глазами, упорно глядя прямо перед собой.
— Обратите внимание, — говорил он, — каждый летчик непременно отличается от других людей. Далее среди нас, авиаторов, одетых в одинаковую форму, он чем-то все-таки выделяется. Чем же? Сразу и не скажешь. Возможно, богатырской внешностью? Нет. Иной человек, смотришь, вон какой битюг, ему ничего не стоит самолет плечом сдвинуть, а он в летчик? не идет. А почему? Да, очевидно, сознает: нет у него для этого способностей. От природы не дано. И он понимает это. Или чувствует подсознательно.
— Рожденный ползать летать не может? — не то спросила, не то просто к месту вспомнила лейтенант Круговая. Она тоже пришла на комсомольский вечер вместе со специалистами аэродромных служб и сидела где-то в задних рядах.
Валентин, услышав ее голос, так весь и встрепенулся. Шагнув вперед, он с вызовом вскинул голову, и глаза его блеснули каким-то недобрым огнем. Ни разу еще я не видел у него таких отчаянных, таких веселых и вместе с тем таких насмешливых глаз. Он, вероятно, еще не остыл к ней.
— Это невозможно объяснить, но это действительно так! — изрек он тоном избороздившего небо воздушного аса. — Не случайно же порой у летчика просыпается самый настоящий птичий инстинкт. Летишь порой, на борту все в полном порядке, а ты вдруг насторожился, не зная сам почему, и в нужный, в критический момент успеваешь сделать именно то, что надо. Это чутье близко к ясновидению, к озарению. Не знаю, как его и назвать.
По залу прошелестел то ли удивленный, то ли недоверчивый шепоток. Пономарев уловил реакцию слушателей и, как бы пресекая возражения, вскинул руку:
— Судите сами. Скорость — сумасшедшая, а перед тобой — раз! — препятствие. Ты еще и не увидел, и подумать не успел, а рука уже сама рванула штурвал, самолет взмыл, огибая преграду, и понесся дальше. А ведь достаточно было доли секунды, и лежать бы тебе под обломками. Что же помогло избежать катастрофы? Интуиция? Особый талант?
— Импульс страха! — подсказали откуда-то из зала. Похоже, эту реплику бросил усатый капитан, который сидел рядом с Круговой.
— Летчик не имеет права на страх! — с жаром возразил Пономарев. — Он должен невозмутимо встречать любую опасность и быть уверенным, что выйдет победителем из любой передряги. Иначе он не летчик.
Я осторожно покосился на Шатохина. Лева сидел, низко склонив голову. Так он обычно сидел на служебных и комсомольских собраниях, когда там разбирались какие-либо неприятные касающиеся его вопросы. Впрочем, мне иногда казалось, что длинные выступления штатных эскадрильских ораторов нагоняли на него сонливость.
А Валентин, явно довольный собой, прошелся вправо-влево по сцене и словно бы в раздумье произнес:
— Если я когда-нибудь чего-то и боялся, то лишь одного: вдруг не сумею стать летчиком! Ведь если не научусь летать, значит во мне есть какой-то изъян. Да и друзья засмеют, вот, мол, хвастался, а не смог. И если я чего-то боюсь сейчас, то лишь одного: потерять небо, потерять возможность летать, пилотировать самолет.
Заскрипев стулом, Филатов нахмурился и негромко обронил:
— Самолюбие — это еще не смелость.
Глубоко уязвленный, Пономарев торопливым взмахом поправил прическу и гордо выпрямился. Категоричный в суждениях, изворотливый в аргументах, он был заядлым спорщиком и распалялся тем сильнее, чем больше ему возражали.
— А без самолюбия летчика я не признаю!. — отрезал он зазвеневшим голосом. — У нас должна быть своя профессиональная гордость, свой кодекс чести. Как, скажем, у моряков.
— Кодекс чести летчика? — сдержанно переспросил капитан Зайцев. — Хм, это звучит. Только, замечу, у нас нет одного кодекса чести для летчиков, другого — для моряков, третьего, к примеру, для танкистов или артиллеристов. В нашей армии у всех одна высокая честь — честь советского воина, честь советского гражданина. Вспомните присягу. Она так и начинается — словами: «Я — гражданин Советского Союза…»
— Товарищ капитан! — резко обернулся к нему Пономарев. — Я знаю присягу наизусть и полностью с вами согласен. Но поскольку мне поручено выступить, то вы уж сперва выслушайте, а потом поправляйте и дополняйте. А я пока не закончил. Так вот. Я служу в авиации и бесконечно горжусь своей профессией. Отнимите у меня эту гордость — и я не летчик. А я люблю летать и говорю об этом, как умею. Говорю прямо, в открытую, вслух. Тут мне стесняться нечего.
— Извините, товарищ докладчик, — мягко улыбнулся замполит. — Я и сам не заметил, как ввязался в полемику. Но у нас ведь не собрание, а молодежный вечер. Так или иначе без обмена мнениями не обойтись.
— Ладно, — кивнул Пономарев. — Но я все равно буду говорить, как думаю. Так вот. — Он вновь обратился к залу, в его голосе с новой силой зазвучал задор, лицо выражало страстную убежденность. — Нигде летчик не испытывает такого полного удовлетворения, как в полете. На земле иной раз чего только не перечувствуешь. И скушно тебе, и грустно, одна мысль сменяет другую. И забот полно, и мелочи разные одолевают, и все уже, кажется, осточертело. Но вот ты взмываешь над всеми этими мелочами, и все они сразу становятся никчемными. Душа точно освобождается от гнета повседневных будничных неурядиц, и ты вдруг становишься веселым, смелым, гордым. Весь ты уже собран, подтянут, готов к поединку со стихией, а если бой — к бою. Ты ощущаешь в себе силу необыкновенную и заранее знаешь: а, была не была, пан или пропал!
— В этом вы и видите свою готовность к подвигу? — спросил капитан Зайцев, стараясь повернуть разговор к теме сегодняшнего вечера.
— Именно в этом и вижу, — подчеркнуто четко ответил Валентин. Затем, поискав кого-то глазами в зале, он задиристо выпрямился и жестким, неожиданным для него тоном, произнес: — Кое-кому из присутствующих здесь очень хотелось, чтобы мы, молодые, как можно дольше оставались на вторых ролях. Дескать, мы не воевали и посему способны лишь ходить в наряд по аэродрому да бегать на танцульки. А мы…