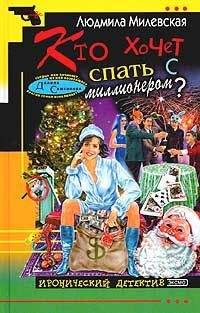Дмитрий Панов - Русские на снегу: судьба человека на фоне исторической метели
С документами, полученными в мандатной комиссии, на руках, я явился в рабфак. Директор, старый большевик, участник революции, чем постоянно хвалился, читавший у нас историю партии, которую толком не знал сам, с трудом озвучивая брошюру Ярославского, вдребезги раскритикованную позже (автор каялся, признавая свои ошибки, расчищая таким образом место для сталинского «Краткого курса»), покрутил головой и сообщил мне то, что я знал уже и без него: отныне я уже не рабфаковец, а мобилизованный в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Мне оставалось только получить документ об окончании полного среднего образования, в котором было указано, что я окончил третий курс рабфака. Этим занималась наш завуч — чернявая, очень энергичная еврейка, лет сорока пяти, по фамилии Рубинчик, заправлявшая всем на рабфаке. Она знала дело и была грамотным человеком.
Я получил двухмесячную стипендию, проездные документы и с Казанского вокзала потащился в плацкартном вагоне на юг, прямо навстречу все более пригревающему солнышку. Природа уже набухала весенней радостью, а я гнался за весной в ускоренном темпе. Печальной предстала передо мной Россия. Даже голодная Москва выглядела сравнительно благополучно по сравнению с теми толпами голодных, оборванных и морально сломленных людей, которых я видел через окно, с верхней полки вагона. Москву еще подкармливали. И совсем не потому, что здесь бывает много иностранцев. Просто Сталин, с болезненной скрупулезностью относившийся ко всему, связанному с удержанием власти, конечно же, сделал естественный вывод из исторических параллелей: всех императоров всегда свергало ближайшее окружение — преторианцы при поддержке плебса столицы. Именно этих людей, если хочешь удержаться у власти, нужно пичкать, даже если страна умирает с голоду. Отсюда и дачи, которые дарил Сталин генералам, и деликатесные пайки, и система, сохранявшаяся до последнего времени, когда целая страна досыта кормила Москву и еще три-четыре города. Возникала особая московская психология и, я бы даже сказал, мировоззрение, надежно удерживающие на плаву всякого диктатора в нашей славной пролетарской столице.
Зловещим обманом на целые десятилетия стала вся эта пролетарская мишура, которая позволила новым правителям так же дочиста обдирать народ, как и религия царям. Звонкими сильными голосами пели мы в рабфаке:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь,
наша сила, наша воля, наша власть!»
и свято верили, в то, что пели. Мы гордились, что из отсталых крестьян, обладавших частной собственностью, стали голыми и ободранными пролетариями, равнявшимися на нашего вождя, скромно ходившего в длиннополой солдатской шинели, хотя сроду солдатом не был, френче и фуражке. Правда вот, как-то обходили мыслью простой факт, что живет он в кремлевских дворцах, уединенно от всех пролетариев. Но, уносясь мыслями от нашей скудной действительности, мы ярко представляли себе огромные массы пролетариев всех стран, которые, выстраиваясь в колонны, спешат на помощь первому в мире пролетарскому государству, которое яростно борется то с внешними, то с внутренними врагами. Вроде бы все это подтверждалось и экономической депрессией, охватившей Запад в те годы.
Не устаю удивляться, как совпадают циклы исторических потрясений в разных частях планеты. По словам наших теоретиков рабочий класс Запада должен был вот-вот восстать под невиданным игом капитала и совершить мировую пролетарскую революцию по нашему образцу. Да вот беда, как-то не спешил мировой пролетариат в коммунистическое ярмо. У них было десять миллионов безработных, а у нас почти тридцать миллионов умерших от голода и погибших во время небывалого по жестокости раскулачивания. О нашей стране знали за рубежом гораздо больше, чем в ней самой. И к такому счастью, которое хуже всякого несчастья, мировой пролетариат, который, как мы были уверены, только и думал о пути к социализму, не спешил. Конечно, правильно делал. Мы же объясняли это его забитостью и отсутствием таких былинных героев как товарищи Буденный, Ворошилов и, конечно же, Сталин.
Чем закончилась вся эта пролетарская бутафория уже в наше время, мы видим. Расстреляны лучшие друзья рабочего класса супруги Чаушеску, под судом другие истинные выразители воли мирового пролетариата. Удивительна разница между тем, что говорили, и что делали под прикрытием пролетарских лозунгов. Такого обмана история, пожалуй, еще не знала.
Под стук колес поезд тащил меня по разоренной стране, в которой заканчивался великий перелом, последствия которого мы переживаем до сих пор. Я то засыпал, то просыпался, то находился между сном и явью. Одичавшая страна, толпы людей, превращенных в босяков, были как игольное ушко, в которое затягивалась нитка нашего поезда. А мне то вспоминались московские музеи, в которые нас водили для поднятия общеобразовательного уровня, то будто звучала ария Ленского из оперы «Евгений Онегин», которую мы, рабфаковцы, опоздавшие на начало спектакля в Малом Оперном театре на Дмитровке, слушали стоя на галерке, переминаясь с ноги на ногу в задубевших от мороза сапогах. Интуитивно чувствовали, какой большой мир открывается нам со светлой сцены, где красиво, хотя и старомодно, по-буржуазному одетые люди пели о неясных для нас любовных страданиях и душевных муках. Это большое искусство, вопреки уверениям пролетарских вождей, так и не стало достоянием народа, которому в тяжком труде за кусок хлеба было не до опер.
Словом, прошел всего год, а я ехал в Ахтари совсем другим человеком. Мир расширился и заиграл новыми красками. Не знаю, возможно, сложилась бы иначе судьба, останься я еще на несколько лет в Москве. Но я никогда не обладал цепкостью, упорством и умением подладиться, чтобы зацепиться в престижном центре. Не раз практически был москвичом, но по своей воле уезжал в небольшие города или во всяком случае менее престижные, но жизнь и быт в которых ближе к моим привычкам и стремлениям.
А иногда в стуке колес мне, казалось, слышались приветственные крики участников грандиозной халтурной инсценировки, которую назвали Днем Физкультурника. Праздники нужны были народу, и на место религиозных пытались поставить другие — наскоро сляпанные. Первого августа 1931 года рабфаковцам, ко всеобщему удивлению, вдруг выдали синие сатиновые трусы и белые полотняные тапочки, стоимость которых не забыли вычесть из следующих стипендий, которой едва хватало на пропитание, конечно же забыв спросить нашего на то согласия. В своей пропагандистской показухе наши идеологические лидеры всегда отличались удивительной скаредностью, перекладывая расходы на все эти буффонады на плечи и без того уже трижды ободранного народа.
Так вот, облачив нас в эти трусы и тапочки, от чего мы, часто стриженные наголо, стали чем-то похожи на индейцев из племени пукчу-микчу или египетских рабов, сооружавших пирамиды, нас, практически голых, повели на Красную площадь. Августовский день выдался сырым и холодным. Сначала моросил, а потом и просто полил дождь. Пять или шесть часов мы стояли на Красной площади против мавзолея Ленина в ожидании выхода руководителей партии и правительства. По нашим худым обнаженным телам, которые имитировали тренированную стать физкультурников, струилась вода. В конце-концов не выдержали даже настоящие спортсмены, студенты Московского физкультурного института имени Сталина, которым предстояло, в отличие от нас — «массовки», изображать разнообразные фигуры, например звезды, акробатические этюды. Колонны рассыпались и смешались. Мы грелись, как могли: приседали и толкали друг друга. Кроме хилого завтрака с утра ни у кого не было во рту маковой росинки, а ведь прошло уже двенадцать часов, из которых шесть мы стояли под дождем на холоде, практически голыми. Наступал вечер. Дождь прекратился, лужи стояли на брусчатке. И вот вспыхнули прожектора, и на трибуне Мавзолея появились Сталин, Ворошилов, Калинин, Каганович, Микоян, Янукидзе и прочая челядь: все тепло одетые, прикрытые плащами. Видно, дожидались окончания дождя, чтобы спокойно полюбоваться диковинным зрелищем, состоящим из фигур и пируэтов, которые изображали пятьдесят тысяч замерзших до синевы, практически голых парней и девушек. Сталин был в своей знаменитой фуражке защитного цвета с красной звездой над козырьком и в добротном плащ-пальто. Имел очень упитанный, спокойный и даже самодовольный вид. Так выглядели в Ахтарях нэпманы, которым удалось сколотить хорошее состояние. Словом, оболванивались мы за свой собственный счет.
Когда наши колонны, пройдя мимо церкви Василия Блаженного, спустились к реке Москва, то нас просто бросили на произвол судьбы. Такое отношение к людям стало обычным делом во все более расцветающей первой в мире стране социализма. Голые, грязные и мокрые мы немало удивили москвичей, энтузиазм которых и стремление к физическому совершенствованию собственно и демонстрировали кучке вчерашних каторжников, когда принялись целыми ватагами вламываться в трамваи, хотя гурьба голых вызывает меньше удивления, чем единоличник. Стремление к жизни в коллективе, пусть даже голым и голодным, стимулировалась разными методами.